 Поджарский Михаил Абрамович - кандидат технических наук, доцент, преподаватель одного из украинских университетов, опубликовал десятки научных и методических работ. Своим главным достижением считает художественные произведения, собранные в десять книг, которые представлены на этом сайте. Книги иллюстрированы автором.
Поджарский Михаил Абрамович - кандидат технических наук, доцент, преподаватель одного из украинских университетов, опубликовал десятки научных и методических работ. Своим главным достижением считает художественные произведения, собранные в десять книг, которые представлены на этом сайте. Книги иллюстрированы автором.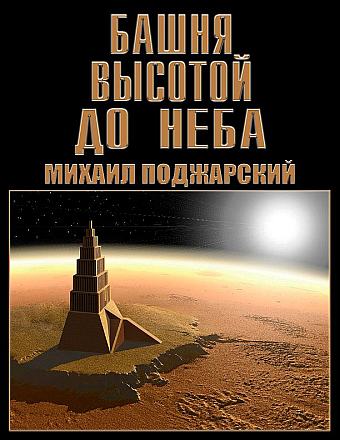
СОДЕРЖАНИЕ
Башня высотой до небаРассказ о человеке, который знал день своей смерти
Повесть об абсолютном зле
Чужая дочь
Рассказ о потерянной дочери
Полчаса до рейса
Дом
Сон, приснившийся под утро
Курсор
Скачать на телефон Купить книгу
Башня высотой до неба
Было это четыре тысячи лет назад в земле Сеннаар*, что между реками Идигна и Буранун*. Жил там некий человек. Он носил имя Игихуль*, ибо его правый глаз был покрыт бельмом и гноился. Этот изъян появился в детстве после того, как его жестоко избил отец за отказ работать на ячменном поле.
Игихуль был тщедушен, сутул, ростом всего в три локтя и восемнадцать пальцев*. Его рано облысевший череп, торчащие уши, большие редкие зубы в купе с испорченным глазом у тех, кто видел его впервые, вызывали оторопь.
Друзей у Игихуля не было. В молодости ему удалось жениться, но тот брак был недолгим. Жена, не выдержав унижений и его неутолимой похоти, сбежала с каким-то торговцем. Он погнался было за ней, но был избит тем торговцем, да так, что чудом выжил.
Он всё время рыскал в поисках какого-нибудь дела, в котором что-то строилось, и лучше, если при участии множества народу. Когда такое находилось – будь то рытьё канала, или строительство храма в честь бога Димузи* – он сразу умудрялся стать во главе. При этом он был неудержим: носился взад-вперёд, распоряжался, кричал, командовал. В его уцелевшем глазу непременно горел огонь, который, окружавшие его, считали адовым.
Сам он ни к чему не прилагал своих рук: не рыл землю, не месил глину, не делал кирпичи, не топил смолу. Вместо этого помыкал другими: говорил каждому, что тот должен делать, убеждал, доказывал, угрожал, запугивал.
В день, когда заканчивалось такое предприятие Игихуль был доволен. На его лице появлялось выражение, которое можно было истолковать, как улыбку. Но уже на следующее утро возвращалось свойственное ему дурное настроение. Он принимался носиться по улицам, что-то бормоча и бросая на прохожих свирепые взгляды. При виде его мужчины уступали дорогу, женщины, закрыв лица, отворачивались, дети с визгом разбегались, вьючные ослы, громогласно ревя, упирались ногами и отказывались идти в сторону, откуда доносилось бормотание.
Однажды случилось такое, что в городе долге время ничего не строилось. Игихуль много дней без дела носился по улицам, заглядывал на базар, в храмы, бегал по берегу реки. Состояние его становилось всё более мрачным. Вскоре его оживление сменилось вялостью. Он перестал есть. Его видели то тут, то там сидящим на земле и глядящим перед собой недвижным взглядом, словно его душу похитил демон, оставив лишь безучастное тело.
В один из дней соседи Игихуля, не увидев, чтобы тот выходил из своего дома, встревожились. За долгие годы такое произошло впервые. И на следующий день никто не увидел Игихуля. Только к вечеру третьего дня соседские мужчины, подстрекаемые своими жёнами, вооружившись мотыгами, решились войти в его убогую лачугу. Осторожно они открыли дверь, висевшую на кожаных петлях, и, ожидая наихудшего, вошли внутрь. Однако их ждало разочарование – жилище, в котором утварью служили только несколько потёртых овечьих шкур и два щерблённых горшка, было пусто.
Наутро весь город облетела новость: Игихуль пропал! Не то, чтобы жители сожалели о том, чьим именем пугали детишек. Но событие это было достойно обсуждения. Чего только не говорили! И что Игихуль стал во главе банды кровожадных разбойников и теперь всем надо бояться набегов, насилий и убийств. И что Игихуль превратился в бешеного пса и теперь нападает на путников, отваживающихся в ночное время выйти на дорогу, ведущую в Борсиппу. Даже находились люди якобы покусанные им! И что Игихуль стал злобным диббуком, который вселяется в людей, чтобы пожирать их души.
Пропажа Игихуля обсуждалась повсеместно: в крестьянских семьях, среди жрецов, на базаре, во дворце правителя-лугаля*. Поначалу его вспоминали с теми чувствами, которые он обычно вызывал – неприязнью и отвращением. Но время шло, былое забывалось, Игихуль постепенно превращался в предание. И вот уже, сидя у семейного очага, взрослые рассказывали детям истории, где главным героем был «наш Игихуль», который совершал невообразимые поступки: побеждал лихих врагов, погибал и пробуждался от смерти, строил дворцы и храмы. Ему даже приписывали строительство самого их города.
За всеми этими разговорами горожане не заметили одного обстоятельства. Со времени исчезновения Игихуля в городе не был вырыт ни один канал, не построен ни один храм, ни одна новая дорога. Нет, попытки были. Горожане собирались в месте предполагаемого строительства и принимались за работу. Но предприятие это, едва начавшись, тут же прекращалась, уступая место ожесточённым спорам о том, что и как надо делать и кто чем должен заниматься. Уже через короткое время, обозлённые строители, окончательно разругавшись, а то и передравшись, изрыгая в адрес друг друга проклятия, разбредались по домам.
Двадцать четыре луны сменилось на небе, когда однажды под вечер город облетело известие: в доме Игихуля кто-то есть! Не успело рассвести, как, несмотря на холодный ветер и моросящий дождь, у стен старой лачуги собралась немалая толпа зевак. Тот, кто был внутри неё, долго не подавал никаких признаков. Некоторые смеливцы, снедаемые нетерпением, стали обсуждать вопрос: а не войти ли внутрь и не посмотреть, есть ли там кто, и если есть, то кто он такой? И вот, когда самый храбрый из них, крепко сжимая в руках большую палку, подступил к самой двери, та вдруг распахнулась и на пороге показалась некая фигура.
Толпа, как один, отшатнулась, причём храбрец оказался в самых задних её рядах. Первый испуганный вздох толпы сменился гробовым её молчанием, которое продолжалось довольно долго, ибо загадочная фигура оставалась недвижной и не издавала никаких звуков. В толпе стали шептаться: «Это он!» – «Да нет, какой же это он! Он ниже ростом», – «А я тебе говорю, это он! Видишь, как голову держит? Будто сожрать кого хочет». Лица пришельца было не разобрать – он с головой был замотан в сильно потрёпанное чудное на вид одеяние, незнакомое в этих краях. В толпе стали носиться предположения, почему пришелец не хочет явить им своё обличие: «Игихуль стал ещё более уродлив и страшиться показать лицо», – «Да не Игихуль это, говорю тебе! Это демон и голова у него шакалья!» – «Да тихо вы! Это сам Азазель! Сейчас схватит кого-нибудь, да утащит!» – «Тупицы вы все! Холодно же, дождь идёт – вот он и замотался, чтоб не простыть».
Вдруг фигура шевельнулась и переступила порог. Толпа, издав громкий вскрик, отпрянула назад. Постояв пару мгновений, как бы в раздумье, пришелец двинулся вперёд. Толпа раздалась так, чтобы пришелец мог идти, никого не задевая. Он, не спеша, шёл сквозь толпу, которая поспешно расступалась перед ним и не менее скоро смыкалась за его спиной, образуя вокруг пустоту. По-прежнему было непонятно, кто же скрывается под странной одеждой. Только когда некий паренёк замешкался убраться с дороги, пришелец отвернул накидку и на разиню свирепо глянул налитый кровью левый глаз.
Пришелец, пройдя насквозь толпу любопытных, вдруг ускорил шаг и быстро, а затем и вовсе бегом, туда, где на холме виднелась крыша дворца лугаля. Зеваки ринулись за ним, оставаясь, впрочем, на некотором расстоянии.
Стража, охранявшая дворцовые ворота, наблюдала странное явление. Вначале из ненастной мглы, в которую были погружены городские недра, до них донёсся приглушённый рокот. Очнувшись от утренней дрёмы, блюстители вскочили на ноги и схватились за копья. Вскоре они разглядели бегущего в их сторону странного человека, облачённого в невиданную в этих краях хламиду. Вслед за ним показалось множество бегущих людей. Стражники устрашились: а не враги ли это внезапно подкрались и теперь бегут, чтобы, захватив дворец, предать его разграблению? Но нет, среди толпы были женщины и дети, никто из них не был вооружён, если не считать некоего верзилу, несущего в руках большую палку.
Между тем, странный человек, возглавлявший процессию, не добежав до стражников двух саженей, вдруг замер, как вкопанный. Бежавшая за ним толпа тоже встала, причём получилась куча-мала, ибо задние, не видя манёвра их предводителя, пытались продолжить бег, в то время как передние уже остановились.
Выждав некоторое время, пришелец откинул с головы накидку и, глядя на обративших в его сторону копья стражников, сказал громким визгливым голосом:
– Моё имя Игихуль!
При этих звуках в толпе за его спиной поднялся неимоверный шум, напугавший стражников в ещё большей степени, ибо причина этого шума была им непонятна. Стражники были аккадскими наёмниками, и имя «Игихуль», как ни громко и горделиво оно было произнесено, ничего им не говорило.
Когда шум в толпе приутих, странный человек повторил:
– Моё имя Игихуль! – и продолжил: – Передайте лугалю, что у меня к нему дело!
Сказав эти слова Игихуль сел на землю и снова завернулся с головой в своё одеяние.
Стражники нерешительно переглянулись. Один из них, прислонив к стене копьё, отворил небольшую дверцу в воротах и исчез за ней. Остальные так и остались стоять с копьями, наставленными на пришельца, ибо ни обстоятельства его появления, ни его наружность отнюдь не вызвали у них добрых чувств.
Через некоторое время стражник вернулся и растерянно сказал:
– Лугаль захворал. Я сказал о тебе главному угуле*. Когда лугалю полегчает и, если он будет в настроении, тот передаст ему твою просьбу.
Игихуль никоим образом не показал, что сказанное ему понятно. Он даже не пошевелился, остался сидеть, из чего можно было предположить, что уходить он не собирается. В толпе поднялся гомон – горожане желали продолжения действа, возникшая задержка была им не по душе. Вскоре недовольство утихло – многие, разочаровавшись, разошлись по домам, будучи озабочены неотложными делами, малое же число присутствующих, невзирая на то и дело моросящий дождь, предпочли усесться на землю поодаль Игихуля в ожидании дальнейших событий.
Дворцовые блюстители, убедившись, что два десятка городских бездельников и их странный предводитель ведут себя смирно и дурных намерений не проявляют, прислонили к стене копья и сгрудились вокруг походной жаровни, в которой дымили коровьи кизяки.
Постепенно дождь прекратился, уступив место порывистому ветру, который разогнал облака и открыл дорогу солнечным лучам. Стражи всё так же сидели вокруг жаровни, которая к тому времени погасла, и делились воспоминаниями о былых ратных свершениях, искоса поглядывая на Игихуля. Его пёстрая свита, находясь от него в отдалении, коротала время, строя предположения о его намерениях. Поскольку Игихуль был всё ещё недвижим, что для знавших его ранее было весьма странно, ибо его помнили неспособным провести без движения и трёх мгновений, стали появляться суждения одно чуднее другого. «Игихуль таки отрёкся от человеческой природы и стал демоном», – «Тогда зачем ему было бежать по улице, он мог просто перенестись по воздуху прямо в покои самого лугаля?».
Домыслы эти были прерваны самым брутальным образом. Дверца в воротах отворилась, оттуда выбежал некий человек и что-то резко сказал стражникам на аккадском наречии, указывая на Игихуля и его спутников. Те бросились к последним, схватив копья, и тупыми концами стали отгонять их подальше от ворот и от дороги, к ним ведшей. Им удалось это сделать не без труда, ибо Игихуль, а с ним и его попутчики, проявили явное нежелание изменить своё местоположение. Однако решительность и выучка аккадцев позволила им отогнать «противников» саженей на десять.
В скором времени дворцовые ворота распахнулись, из них под началом надсмотрщика выбежали четверо рабов, нёсшие на плечах роскошные носилки, и быстро скрылись в городских улицах. Едва ворота закрылись, они распахнулись вновь, из них появились три аккадца в полном боевом облачении и бегом направились каждый в сторону одного из храмов: Димузи, Энлиля и Инанны*.
Через малое время вернулась четвёрка рабов, неся на носилках сухонького старичка, одетого в плащ из овчины. «Лекаря понесли…» – зашептались спутники Игихуля. – «А те трое за жрецами побежали. Плохи, видно, дела у нашего лугаля…».
Вдруг из-за кирпичной стены стали доноситься крики, глухие удары, звон металла. Продолжалось это недолго и закончилось также внезапно, как и началось. Не успело всё стихнуть, как ко двору невесть откуда стали слетаться стервятники.
Ворота вновь открылись и более уже не закрывались. Через них в обе стороны стали сновать какие-то люди, большей частью аккадские наёмники. Среди входивших во дворец были представители жреческого сословия. В одном из них, шедшем во главе немалой процессии, спутники Игихуля узнали Анунаки – верховного жреца из храма Димузи, одетого в торжественную накидку с шерстяным колпаком на бритой голове. Поравнявшись с зеваками, окружавшими Игихуля, он искоса глянул на них, затем, обернувшись к сопровождавшим его, тихо сказал что-то вроде: «Эти подойдут».
Вскоре после этих слов Игихулевым спутникам, которые находились в том месте исключительно по причине собственного любопытства, пришлось в нём раскаяться. Из ворот выбежали с три десятка аккадцев и, окружив несчастных, плетьми и копьями погнали их через ворота во двор дворца. Не дав ни мгновения опомниться, они загнали их в огороженный тростниковым забором загон, в котором ранее содержался скот, предназначенный лугалевых трапез.
Сквозь прутья забора несчастные смогли рассмотреть, что происходило во дворе. Повсюду в лужах крови валялись мёртвые тела. То были солдаты личной гвардии лугаля, его слуги, рабы. Было много женщин, не только рабынь, но и, судя по богатому одеянию, жён и наложниц лугаля. У большинства тел были разбиты головы, у многих вспороты животы и отрезаны разные члены. К телам подходили рабы и, понукаемые аккадскими плетьми, сняв предварительно с них одеяния и украшения, клали их на носилки и уносили прочь со двора.
Среди Игихулевых спутников начался плач и стенания, ибо поняли они, что происходит, и какая участь их ожидает.
Вскоре появилась зловещая фигура – уродливая старуха, замотанная в чёрную драную хламиду. Подойдя к забору, она принялась внимательно разглядывать узников, словно они не люди, а те, для кого был предназначен вместивший их загон. Под её леденящим взглядом узники приумолкли. Она посмотрела на каждого из них. Никто не в силах был отвести взгляд от её пронзительных глаз. Стенания, смолкнув, сменились испуганным шёпотом: «Это Иркалла! Иркалла! Нам конец!». Сама же старуха, переводя взгляд с одного на другого, не менялась в лице, не выказывала своих помыслов, которые, впрочем, всем и так были понятны. И только, когда она взглянула на Игихуля, на её лице отразилось то ли изумление, то ли испуг. Она долго его разглядывала, потом вдруг повернулась и быстро, насколько позволяли её годы, удалилась прочь.
Только ведьма убралась, узники стали причитать с удвоенной силой. Они проклинали Игихуля, равно как и богов, и свою несчастливую долю. Один из них по имени Булалум, который с большой палкой хотел войти в дом Игихуля, подступился было к нему с намерением поквитаться за своё нынешнее незавидное положение, но, встретив лишь один взгляд Игихулева глаза, в тот же миг ретировался.
Между тем, рабы, вынесшие все мёртвые тела с дворцового двора, теперь мотыгами сдирали окровавленную землю и убирали её прочь.
Из большого прямоугольного здания, сложенного из необожжённых кирпичей, которое, собственно, и было дворцом лугаля, во двор вышли трое жрецов со своими приближёнными. Они, которые, по обыкновению, не встречались друг с другом, а, встретившись случайно, не разговаривали, принялись что-то негромко, но, вместе с тем, горячо обсуждать. Доносились обрывки их бурной беседы: «Отравил отца, это понятно. Не терпелось на трон сесть», – «Старику давно пора было…» – «Он нас Аккаду продаст», – «Всю гвардию перебили, ни одного солдата не осталось» – «Надо побыстрее провести обряд, а то он и нас…».
Эта беседа интересовала одного только Игихуля, который с жадностью ловил каждое слово, доносившееся до него. Внимание же спутников его было приковано к дальнему концу двора, где под навесом на треногах стояли казаны, предназначенные для приготовления кушаний для лугалева стола. Сейчас там была одна только Иркалла. Вскипятив воду в средней величины казане, она высыпала в неё что-то из мешочка, который извлекла из недр своей хламиды. Теперь же она помешивала смердящее варево, закрыв глаза и что-то нашёптывая.
Двери дворца широко распахнулись, и из них во двор стало выходить множество людей. Жрецы, снова приняв свойственный им степенный вид, отдалились друг от друга и со своими приближёнными отошли в сторону, уступив место рабам, выносившим наспех сооружённые погребальные носилки, на которых лежало тело лугаля Месаннипадды. Носилки на короткое время остановились, ожидая, когда за ними выстроится процессия. Порыв ветра отвернул покрывало с лица покойного, и стало видно, что оно сильно раздулось и было покрыто багровыми пятнами. Затем носилки двинулись вперёд. За ними, окружённый аккадцами, держащими каждый в правой руке по короткому мечу, шёл Мескалам-дуг – старший сын Месаннипадды. Он был одет в длинный до пят шерстяной плащ, скреплённый на груди золотыми застёжками и украшенную цветными нитями войлочную шляпу. За ним шли пятеро его сыновей, старший из которых был одет в боевое облачение аккадского воина. Других детей Месаннипадды видно не было. За свитой Мескалам-дуга к процессии пристроились жрецы с приближёнными, причём, тронувшись в путь, все они стали громко причитать, изображая глубокую скорбь, некоторые принялись расцарапывать себе лица. В конце процессии встали музыканты, громко дувшие в трубы и бившие в барабаны, дабы в Подземном царстве услышали, что в него скоро спустится новый обитатель.
Похоронная процессия быстрым шагом пересекла двор и вышла в ворота, направляясь за городские стены на берег Бурануна, туда, где были похоронены все предки Месаннипадды. Иркалла присоединилась к ней последней.
Едва процессия скрылась из виду, в загоне для скота повисла могильная тишина. Его обитатели, смирившись, безропотно ожидали своей участи. Только Игихуль, раскачиваясь, что-то мычал про себя и со сдерживаемой яростью постукивал кулаком по колену.
Два раба просунули палку под ручки казана с варевом Иркаллы и, взвалив эту ношу на свои плечи и стараясь не вдыхать ядовитые пары, под началом надсмотрщика понесли её вслед похоронной процессии.
Увидев это, спутники Игихуля, поняли, что наступают последние их минуты, и вновь стали причитать.
Их наихудшие ожидания вскоре оправдались. К загону подошла целая сотня аккадцев. Наёмники стали выгонять их наружу. По выходе из загона, каждому связали руки за спиной. После чего всех их, словно бессловесный скот, погнали прочь из дворцового двора.
Путь их был недолог. Закончился он на берегу реки у огромной свежевырытой могилы. Обряд уже подходил к концу. Рабы, закончившие засыпать землёй тело Месаннипадды, поспешно выбирались из ямы. В дальнем конце ямы были сложены принесённые сюда тела убитых во дворцовом дворе. Многие уже были присыпаны землёй. Подручные жрецов укладывали рядом тела жертвенных животных со вспоротыми животами. На краю ямы был казан с варевом Иркаллы. Сама она стояла рядом с глиняной чашей в руках.
Недалеко от могилы стояли жертвенники, над которыми подымались столбы чёрного жирного дыма. Музыканты извлекали из своих инструментов самые громкие звуки, которые, однако, не могли заглушить рёв и блеяние жертвенных животных, приведённых сюда для заклания, и голосивших в предчувствии своей участи. Остро пахло горелой плотью, свежевырытой землёй и кровью. Жрецы с подручными делали свою работу. Анунаки с расцарапанным лицом и руками по локоть в крови совершал заклание очередной жертвы. Ягнёнок с перерезанным горлом ещё сучил ножками, а жрец, вспоров ему брюхо, тащил наружу внутренности, чтобы бросить их в пылающее на жертвеннике пламя.
Поодаль стоял Мескалам-дуг со своей свитой. Судя по царившему там оживлению, мрачность происходящего нисколько не трогала нового лугаля.
Когда несчастные в окружении наёмников появились вблизи могилы, взоры присутствующих устремились на них. В этих взорах было любопытство, презрение, снисходительность – всё, что угодно, кроме сострадания.
Пинками и ударами плетей их заставили встать на колени. Анунаки, закончив жертвоприношение, не омыв рук, взял в правую жреческий посох и, подойдя к несчастным простёр его над их головами.
– Слушайте меня, черноголовые*! – воскликнул он. – Сегодня свершится ваше предназначение! Вы избраны для того, чтобы сопроводить вашего лугаля, почтенного Месаннипадду, в царство мёртвых, там быть при нём и служить ему!
При этих словах среди «избранных» поднялся плач.
– Сейчас я совершу над вами обряд, и ваши имена будут вычеркнуты из списка живых, – продолжал Анунаки. – Потом каждый из вас выпьет свою смертную чашу.
Наёмники стали по одному подымать с колен приговорённых и подводить их к жрецу. Тот ладонью зачерпывал из сосуда жертвенную кровь и мазал ею лицо несчастного, бормоча молитву. После этого вычеркнутого из списка живых подводили к могиле. Иркалла, давала ему кубок с зельем, которое она зачерпывала из казана. Тех, кто боялся пить, крепко хватали аккадцы, зажимали нос, насильно открывали рот, куда Иркалла вливала зелье. Затем на руках несчастного разрезали путы и сталкивали его в яму. Чтобы оттуда никто не выбрался, на её краю стоял ряд аккадцев с направленными в её сторону копьями. Впрочем, предосторожность эта была излишней, ибо выпившие смертное зелье быстро теряли силы и ложились на дно ямы, чтобы, содрогаясь в конвульсиях, издать последний вздох.
Игихуля взяли одним из первых. Когда его подвели к жрецу, и тот вымазал его лицо кровью, он вдруг укусил за руку державшего его наёмника, упав на землю и перекатившись, сбил с ног его напарника, затем, вскочив, бросился к Мескалам-дугу и пал перед ним на колени.
– О юный господин! Выслушай меня! Я расскажу тебе, как прославить наш Сеннаар во всех землях!
«Юный господин» как раз рассказывал что-то смешное членам своей свиты, которые внимали ему, угодливо хихикая. Прервав свой рассказ, он воззрился на появившегося у его ног окровавленного Игихуля. На его неподвижном, заплывшем жиром лице появилось что-то вроде удивления.
– Я знаю, как возвеличить Сеннаар и сделать его центром мира! – продолжал, между тем, Игихуль.
Мескалам-дуг – жестом показал подбежавшим аккадцам, чтобы они не трогали пока Игихуля.
– Чего ты хочешь? – спросил он.
– Я хочу построить башню высотой до неба! – воскликнул Игихуль, стоя на коленях со связанными за спиной руками.
– Зачем? – спросил Мескалам-дуг.
– Это будет самое великое строение на земле.
– Ну и что?
– Это будет величайшая постройка всех времён.
– Ну и что? Зачем она мне?
– Такого ни у кого нет…
– И в Аккаде? – спросил Мескалам-дуг, искоса глянув на аккадского генерала, стоявшего от него по правую руку.
– И в Аккаде, – подтвердил Игихуль.
– А для чего будет эта башня: дворец, храм, хранилище для зерна?
– Ну… просто башня… Это будет самая высокая башня в мире!
– Я понял, что она высокая. А какую выгоду из неё можно будет извлечь?
– Она нас прославит.
– И что мне с этой славой делать? На хлеб её намазать? Или на голову надеть? – спросил Мескалам-дуг, и его придворные угодливо рассмеялись.
– Люди со всей земли будут приходить, чтобы посмотреть на эту башню.
– А платить за это они будут? Не будут. Зачем платить за то, что и так отовсюду видно.
– В ней можно храм устроить.
– Мало у нас храмов! Он хочет построить башню до небес, а сам не знает, зачем она! – воскликнул Мескалам-дуг, обращаясь к своей свите. Затем, махнув рукой аккадцам и отвернувшись, сказал: – Заберите от меня этого безумного!
Два дюжих наёмника, схватив под руки, потащили Игихуля к Иркалле. Игихуль, отчаянно сопротивляясь, крикнул:
– Ты всего лишь обычный лугаль! Как и твой отец! А построив башню, ты станешь энси*! Жрецы всех храмов будут тебе кланяться!
Мескалам-дуг поднял руку. Наёмники остановились, переглянулись и подтащили Игихуля назад к их хозяину.
– Не ты ли тот наглец, что приходил ранним утром ко дворцу и требовал встречи с моим отцом? – спросил Мескалам-дуг. Ему наскучило смешить свою свиту и теперь он глядел, как в яме корчатся в агонии принявшие Иркаллово зелье.
– Да, это я, – ответил Игихуль.
– Чего же ты от него хотел?
– Построить башню.
– Ты безумен.
– Так говорят. Многие думают, что я одержим демоном, который в меня вселился.
– Что из этого правда? – спросил Мескалам-дуг, обернувшись, наконец, к Игихулю.
– Не знаю. Быть может, и то, и другое.
– Зачем строить то, что не принесёт выгоды?
– Потому что никто никогда такого не делал.
– Прославиться хочешь?
– Просто хочу её построить.
– Если такой башни ни у кого нет, откуда ты знаешь, что это возможно?
– Это возможно! – воскликнул Игихуль, – Я был в стране Кемет*, которая находится там, где заходит солнце. Тамошние лугали строят огромные пирамиды. Они высотой с гору! И все, кто видят такую пирамиду восторгаются ею и превозносят величие лугаля, построившего её!
– Зачем они им?
– Их хоронят в этих пирамидах.
– Только этого не хватало! Нет уж! Я хочу, чтоб меня похоронили, как и всех моих предков – в земле. И чтоб со мной была сотня моих придворных и целое стадо скота, – сказал Мескалам-дуг, глянув на членов своей свиты. Те склонили головы. – Ты хочешь построить такую, как в Кемете?
– Нет! Выше, намного выше! Чтоб облака доставала!
– Я слыхал о тех пирамидах. Слыхал, что выше их ничего построить нельзя…
– Можно! Можно! В Кемете пирамиды строят из камней. Каждый камень нужно вырезать из скалы, придать ему нужную форму, дотащить до места постройки и установить на предназначенное для него место. Это очень трудно и долго.
– Из чего же ты хочешь строить твою башню?
– Из того, из чего сделаны все наши постройки – из кирпича. Глина, тростник, солома и вода – замесил, придал форму, высушил на солнце и всё! А скреплять кирпичи можно чёрной смолой*, что есть в наших озёрах. Глины у нас много, смолы тоже – построить можно, что угодно!
– Какой же должна быть эта башня? Какой формы?
– Я… не…
– Такая же, как те пирамиды?
– Я… не думал…
– Ха! Он не думал! Анунаки! Иди-ка сюда!
– Да, почтенный, – сказал жрец, спешно подойдя.
– Я забираю этого одноглазого.
– Никак не можно, господин! Над ним совершён обряд! Он теперь принадлежит Подземному царству, и его нельзя оставлять среди живых.
– Ты слышал, Одноглазый? – сказал Мескалам-дуг Игихулю. – Ты, оказывается, уже мёртв! Что скажешь на это?
– Значит, мне нечего терять, почтенный, – сказал Игихуль, глядя в глаза Мескалам-дугу. – Можешь меня убить, только дай мне построить башню!
– Зачем же время тянуть? – сказал тот, глянув на аккадцев. – Твою башню всё равно построить нельзя. Может, лучше сейчас тебя закопать?
– Мою башню построить можно!!! – крикнул Игихуль, чуть не вырвавшись из рук, державших его.
После этих его слов наступило молчание. Мескалам-дуг разглядывал Игихуля.
Внезапно раздались истошные вопли. Когда наёмники схватили Булалума, чтобы тащить его к Иркалле, он вдруг стал бешено отбиваться. Со связанными руками он катался по земле, колотя ногами нападавших на него аккадцев. Двое из них уже лежали без памяти. Остальные бегали вокруг, не зная, как подступиться к непокорному пленнику. Наконец, сговорившись, по команде они вшестером набросились на него со всех сторон и, прижав к земле своими телами, накинули верёвки на его ноги и шею. После чего, как и был, лежащего они потащили его к краю могилы.
Глядя, как один из наёмников пытается своим ножом разжать Булалуму челюсти, чтобы Иркалла смогла влить своё зелье, Мескалам-дуг сказал:
– Ну ладно... Глины у нас много. Почему бы и не попробовать? Живи пока, Одноглазый. Когда на небе появится новая луна, явишься ко мне, расскажешь, какой она будет – твоя башня.
Игихуль воскликнул:
– Нет пределов твоей мудрости, о лугаль! Но рассуди: тех мёртвых, что лежат в могиле довольно, чтобы служить твоему отцу. Прикажи отпустить людей, которых взяли вместе со мной и которые ещё живы. Они будут мне помощниками. И того верзилу тоже.
Мескалам-дуг, скривившись, махнул рукой, веля выполнить просьбу Игихуля. Аккадский генерал, бывший рядом, что-то крикнул по-своему, и его воины отпустили Булалума, так и не принявшего смертного зелья. Не веря случившемуся, тот сидел на земле и утирал текущую изо рта кровь. Другие пленники тоже воспрянули духом, видя, что аккадцы от них отступились.
Мескалам-дуг, между тем, снова стал, молча, разглядывать Игихуля. Потом медленно произнёс:
– По твоим словам ты безумец. К тому же, одержимый демоном. Нынче тебя вычеркнули из списка живых – ты мёртв. Выходит, что теперь ты уже не человек. А кто? Выходит, теперь ты уже не одержимый демоном. Ты уже сам демон. Безумный демон. Так знай же: это тебя не спасёт. Если твоя затея потерпит неудачу, я с тобой сделаю такое, что весь Подземный мир содрогнётся.
– Если башня построена не будет, я сам отправлюсь в Преисподнюю и вправду стану демоном, пожирающим души! – воскликнул Игихуль. В его здоровом глазу пылало пламя. – И пусть я буду проклят и заточён живым в Преисподнюю на веки вечные!
– Да будет так! – сказал подошедший Анунаки.
– – –
– Где башня? – спросил Мескалам-дуг, бросив обглоданную кость собаке.
Полуобнажённая рабыня поднесла ему глиняную чашу с водой. Он опустил в неё руки, вымазанные в бараньем жире, лениво пошевелил пальцами, затем вытер руки о набедренную повязку рабыни, больно ущипнув её за причинное место.
– Ты оглох, Одноглазый? Где башня, спрашиваю!
– Строится, – сказал Игихуль, стоящий посреди трапезной комнаты.
Он сильно изменился. Ещё больше высох, сгорбился. Остатки волос на голове, росшие редкими кустиками, стали жёлто-белыми. Его единственное одеяние – хламида, в которой он пришёл из Кемета – превратилась в лохмотья. От него исходил гнилостный дух. Из больного правого глаза беспрерывно сочился гной. Но его налитый кровью левый глаз, как и раньше, пылал дьявольским огнём.
– Строится?! – воскликнул Мескалам-дуг. – Она уже два года строится! Ты что мне обещал? Башню до небес в тысячу локтей высотой! А что я вижу? Груду кирпича, в которой и пятидесяти локтей* нет!
Игихуль, не мигая, смотрел на правителя, ожидая, когда тот выговорится. Его голова и правая рука слегка подрагивали.
– Интересно ты её строишь, – не унимался лугаль. Он улёгся на своё ложе, рабыня укрыла его ноги войлочным одеялам и принялась умащивать его плечи и грудь благовонным маслом. – Кладёшь кирпичи, потом разбираешь, снова кладёшь и опять-таки разбираешь. Где ты этому научился? В твоём Кемете так пирамиды строят?
– Постройка тяжёлая – кирпичи не выдерживают. Из двенадцати кирпичей только три хорошие.
– В остальных девяти что не так?
– Рабы слишком мало соломы кладут. Или слишком много. Или режут её крупно. Угулы не ждут, когда кирпичи высохнут, – велят каменщикам сразу в стены укладывать.
– Я им за это плачу – одна мера* зерна за четыре дюжины кирпичей.
– Это много. Твой отец угуле две с половиной меры в день платил. А эти по пять-шесть мер зарабатывают, кирпич плохой кладут.
– Учит меня будешь, Одноглазый! – заорал Мескалам-дуг. Он сел на ложе, оттолкнув рабыню. Его лицо побагровело. Однако, увидев, что его крик не впечатлил Игихуля, быстро успокоился. – Зерна мне не жалко – оно храмовое. Анунаки не обеднеет. Ему крестьяне с урожая ещё больше нанесут.
– Он говорил, что скоро платить перестанет…
– За это не бойся – Анунаки платить будет. Он на твою башню глаз положил. Хочет там храм Ану устроить. Хочется ему, видите ли, величайшим жрецом стать!
– Но угулы…
– Сколько они получают, столько и будут получать! Всё! Больше об этом не говорим! А ты сам чего зеваешь? Ты же старший там – самый большой угула. Вот и наводи порядки – следи, чтобы рабы старались. Наказывай. Не слушаются – повесь одного-двух. Я тебе воинов для чего дал?
– Раб за свои полмеры зерна в день стараться не будет, как его ни наказывай. А много вешать – город взбунтуется. Большая часть рабов – горожане, которые тебе долги не смогли вернуть.
– Чего же ты хочешь от меня? Так устроен мир, – лугаль снова лёг на ложе, взял с медного блюда финик, и положил в рот, пожевал, плюнул косточкой в Игихуля, скривился от того, что она не долетела. – Ты-то сам чего пожаловал? То его на верёвке не приведёшь, а тут сам явился.
– Дело есть.
– Опять что-то хочешь построить? Башни мало? – Мескалам-дуг скривился, будто у него зуб заболел.
– Печи. Кирпичи обжигать. Они твёрдые получаются, как камни. И в воде не размокают. Солома для них не нужна. Вот, гляди.
Игихуль вытащил откуда-то из складок своего рубища небольшой кирпич и, протянув его обеими руками, показал лугалю. Мескалам-дуг сделал знак, и рабыня подала ему кирпич, с опаской взяв из рук Игихуля.
– Да, твёрдый, – сказал он, повертев кирпич в руках и даже поцарапав его своим медным ножом. – Сам придумал?
– Не я. Это Булалум. Он кирпич в костёр обронил, назавтра достал, а тот вот такой…
– Булалум… Помню – верзила такой. Его чуть вместе с тобой не закопали… Печи большие должны быть…
– Если на сорок дюжин кирпичей, их надо не меньше дюжины.
– Ладно. Строй свои печи, – Мескалам-дуг отбросил кирпич, подтащил к себе рабыню, схватив её за складку кожи на животе, сорвал с неё набедренную повязку. – Ты что, не понял? Разрешаю тебе печи строить! Всё! Иди!
Но Игихуль не двинулся, даже когда лугаль снял набедренную повязку с себя.
– Ты ещё здесь? – спросил Мескалам-дуг удивлённо.
– Есть ещё одно, почтенный…
– Что? Да что ж это такое? Говори! – крикнул лугаль в нетерпении.
– Надо разобрать башню…
– Что-о-о?
– То, что построено, построено из необожжённых кирпичей. Если боги пошлют наводнение, если Буранун разольётся, то они размокнут и…
– Проклятье! – воскликнул Мескалам-дуг, поняв, что старания его безуспешны, и ударил рабыню по лицу.
Как был без одежды он встал с ложа, сел за стол, сам налил себе вина. Выпив, он сказал:
– Повтори ещё раз.
– Если будет наводнение, вода подмоет башню, и она рухнет. Надо её разобрать и сложить заново. Но теперь из обожжённых кирпичей…
– Одноглазый! – воскликнул Мескалам-дуг, отбросив кубок и взяв в руки нож. – Два года назад ты не знал, что кирпичи размокают? Разве ты никогда не видел, как в сезон дождей в городе дома рушатся?
– Я думал, у башни основание широкое, падать некуда…
– Раньше некуда было, а теперь есть куда?
– Нижние кирпичи разрушаются – вода размывает. Если строить дальше, башня раздавит своё основание.
– Значит так! – сказал лугаль, переведя взгляд с Игихуля на рабыню, сидящую на корточках у ложа и утирающую слёзы. – Ничего разбирать ты не будешь. Наделаешь своих новых кирпичей и обложишь ими стены снаружи, чтоб вода внутрь не попала. Потом будешь строить дальше. Всё. Иди.
Он встал из-за стола, подошёл к рабыне и стал с наслаждением наматывать на руку её волосы.
Игихуль и не подумал уйти. Он смотрел на лугаля, и в его здоровом глазу по-прежнему пылал дьявольский огонь.
– Те кирпичи защитят башню от дождя – от воды, падающей сверху. Если будет наводнение, вода просочится внутрь и разъест основание. Нужно расширить русло Бурануна, чтобы он мог принять больше воды. Тогда наводнений можно будет вообще не бояться.
– Может ты и реку вспять повернёшь?! – заорал Мескалам-дуг. Он прижал рабыню к ложу, вдавив её лицо в подушку, и был уже готов достичь желаемого. – Убирайся! Вон! Вон!!!
– – –
Человек по имени Убар слез с коня и замер, поражённый простиравшейся перед ним картиной. За его спиной остановились слуги и вереница из шестидесяти рабов.
Резкий северный ветер, дувший им в спину, разогнал плотный утренний туман, открыв панораму колоссального строительства.
Первое, что увидел Убар, когда рассеялась туманная пелена, была, находившаяся в двадцати ашлах* впереди, гора, как бы внезапно возникшая посреди равнины. Присмотревшись, он понял, что гора эта рукотворна. То была четырёхугольная пирамида со срезанным верхом. Высота её была никак не меньше двухсот пятидесяти локтей. Цвета она была красно-коричневого. К пирамиде были пристроены две огромных лестницы, по которым двигались люди. По одной лестнице они поднимались, неся на плечах какую-то поклажу, по другой спускались налегке. Что происходило на верху пирамиды, было не разобрать, потому как часть её была закрыта сизым туманом.
Восточнее, где сверкал своими водами Буранун, вся земля была изрыта огромными ямами. В тех ямах, словно в исполинском муравейнике, копошилось множество людей. Они вычерпывали мотыгами глину и клали её в плетёные корзины. Их собратья подымали эти корзины себе на плечи и, двигаясь цепочкой, несли их на обширное поле. Земля там была покрыта чем-то, издали похожим на жёлтую змеиную чешую. Всмотревшись, можно было понять, что это кирпичи, из которых в этой местности делались все постройки, и которые, уложенные ровными рядами, ждали солнечных лучей, чтобы просохнуть и затвердеть. Придя на это поле, носильщики вываливали глину из своих корзин в большие ямы. Другие лили туда, воду, которую они приносили в бурдюках, наполнив последние в Бурануне. Когда ямы заполнялись, водоносы спускались в них и ногами месили материал для будущих кирпичей. Затем с помощью деревянных рам готовой смеси придавали нужную форму и раскладывали изготовленные кирпичи на земле, чтобы те просохли перед обжигом.
Оправившись от удивления, Убар сел на коня и, сделав знак спутникам следовать за ним, тронулся в путь к цели своего путешествия – городу, скрытому от глаз громадой пирамиды. Не пройдя и десяти ашлов, он понял, что сизый туман, закрывавший одну из сторон и верх пирамиды – это вовсе не туман, а дым, исходивший из множества больших печей, стоявших между пирамидой и полем, на котором сохли кирпичи. Подойдя ещё ближе, он увидел, как работники, бывшие при тех печах, полностью обнажившись, залезли в недра одной из них, видимо ещё не до конца остывшей, и, передавая друг другу, по одному вынимали из неё обожжённые кирпичи. Их товарищи укладывали кирпичи в холщовые мешки, чтобы отнести их потом по лестнице на верх пирамиды.
Повсюду между работающими, будь то землекопы или работники при печах, находились люди, вооружённые плетьми или палками, а то и короткими мечами. Они следили за работающими и не медлили применять свои орудия, когда кто-либо из тех мешкал делать требуемое.
Двигаясь дальше, Убар со слугами и рабами, намереваясь направиться прямиков в город, обогнул пирамиду. Увиденное же с другой её стороны заставило его вновь остановиться. Но теперь причиной его остановки было не столько удивление, сколько суеверный ужас.
Там было кладбище. Занимало оно никак не меньше десяти буров*. Одним краем своим оно упиралось почти в самую пирамиду, другим – в городскую стену, третьим доходило до берега Бурануна, четвёртый заканчивался у дороги, ведшей в город. Могилы теснились одна к другой. Только немногие из них имели на себе памятные знаки. На остальных не было ничего кроме земляных холмиков. На краю кладбища, что у дороги, была вырыта большая яма, на дне которой лежали тела, едва присыпанные землёй. Как видно, устроители этого некрополя более не намеревались рыть могилы для каждого умершего отдельно. Край кладбища у пирамиды был густо заставлен столбами, на которых были мёртвые останки, распятые или повешенные за шею. Над ними густо роились насекомые, на многих сидели стервятники, ожесточённо их терзая. Ужас от того места усиливало царившее там зловоние, к которому примешивался запах дыма из обжиговых печей.
Закрыв рот и нос краем одежды, Убар двинулся дальше, спеша как можно быстрее проминуть это ужасное место. Устав удивляться, он не заметил, с каким спокойствием шли по дороге в город или из него местные жители, не проявляя никаких чувств при виде этого преддверия Преисподней.
У городских ворот Убару пришлось заплатить немалое мыто за право войти в город для себя и своих людей, причём, за рабов стражники с него потребовали столько же, сколько и за слуг. Оставить спутников на постоялом дворе ему тоже стоило недёшево.
Город удивил Убара малочисленностью населения. Народу на улицах было мало, главным образом, женщины и старики. Детей не было видно совсем. Городской базар был и вовсе пуст. Повсюду в поисках поживы рыскали бродячие псы.
– Мир тебе, уважаемый Шубад! – сказал Убар, войдя под вечер в лавку, которая была в одном из множества похожих друг на друга домов.
– И тебе мир, уважаемый! – ответил хозяин лавки, разглядывая пришельца, подслеповато прищурившись. – Назови своё имя, чтобы я мог упомянуть его в благодарственной молитве.
– Моё имя Убар. Имя моего отца Угурназир, моей матери – Кулаа.
– Что же привело тебя ко мне в это недоброе время? – спросил Шубад,
– Я привёл на продажу шестьдесят рабов.
– Дело это хорошее. Рабы сейчас нужны, – медленно произнёс Шубад, разглядывая гостя.
– Так купи их у меня! – воскликнул Убар.
– Не откажи мне в такой чести, раздели со мной скудную трапезу, – сказал Шубад, словно не заметив нетерпения гостя.
Трапеза действительно была скудной: лепёшки, козий сыр, да сушёные фрукты.
– Ты не похож на черноголовых, – сказал Шубад, когда вечеря была окончена, – У нас лица круглые – у тебя вытянутое. И волосы у тебя не такие курчавые, как у нас.
– Я родом из Ашшура.
– А по-нашему говоришь правильно…
– Я, как и ты, торговый человек. С малолетства кочую в этих местах, в Кише, Ниппуре, Шуруппаке.
– Ты не торговый человек, – сказал Шубад, пригубив из глиняной чашки травяного отвара. – Когда я спросил твоё имя, ты его назвал. Но ты также назвал имена своего отца и матери, хотя я о них не спрашивал. Ты нетерпелив и прямодушен. Торговые люди такими не бывают.
– Кто же я, по-твоему? – спросил Убар, глядя через открытую дверь на виднеющуюся вдали пирамиду.
– У тебя крепкие плечи, как у всех, кто упражняется с оружием. Ты – аккадский лазутчик.
– Не боишься?..
– Ты шёл ко мне из Аккада не для того, чтобы горло перерезать.
– Почему ты так решил?..
– Приветствуя, ты назвал меня по имени, хотя видишь впервые. Ты узнал его от Никануура. Когда он был начальником стражников при нашем Мескалам-дуге, он, бывало, покупал у меня женщин для себя и своих воинов.
– Пока ваш лугаль платить не перестал.
Собеседники вышли из дома и присели на порог. Они сидели, глядя на пирамиду, имевшую в лучах заходящего солнца цвет червонного золота.
– Пять лет назад, в день, когда он похоронил отца и стал лугалем, Мескалам-дуг сильно изменился, – сказал Шубад.
– Говорят, его душу забрал демон? – спросил Убар, понизив голос.
– Демон во плоти, – ответил Шубад.
– Не знал, что такие бывают.
– Есть один такой. Игихулем зовут.
– У нас говорят, тот демон хочет построить очень высокую башню.
– Башню высотой до небес.
– Но эта пирамида до неба не достанет. Ещё локтей сто и уже будет её вершина.
– Это ещё не башня, а только её основание. Саму башню строить он ещё не начал.
– Зачем она ему?
– Думаю, как и у всех демонов, у него интерес один – забирать у людей их души.
– У Мескалам-дуга забрал, у кого ещё?
– У многих. У жрецов, к примеру. Лугалю он внушил: с такой башней аккадцы, хурриты, луллубеи, касситы – все будут у его ног. А жрецы… тем просто пообещал самый большой храм на земле.
– Видел я, чего вам эта башня стоит – я про кладбище говорю. И в городе вашем запустение. Почему черноголовые терпят, почему не взбунтуются?
– Э-э-э, не всё так просто… Многие сами хотят эту башню построить. Они верят, что когда достанут неба, то сравняются с богами. Тогда исчезнут все горести и воцарится всеобщее счастье. Они эту башню знаешь, как прозвали? «Врата к богу».
– И много таких.
– Достаточно. А есть некоторые, кто считают самого Игихуля чем-то вроде бога. Те – всё время при нём. Каждое его слово слушают и другим передают. У этих он точно души забрал, зачаровал, без сомнения.
– Если его убить, чары исчезнут?
– Убить… Тело-то у него человечье, да тщедушное, к тому же… Но вот подступиться к нему… Возле него всегда человек есть, Булалум зовут. Огромный такой. Он ему и охранник, и слуга, и чуть ли не нянька. Однажды нашлись смельчаки, которые на Игихуля напасть решились, так он пятерых во мгновение ока положил. Двоим голыми руками головы оторвал.
– Тоже души лишился?
– Да нет, этот Игихулю служит добровольно. Тот ему жизнь спас.
– Может, Игихуль это делает ради богатства?
– Он нищ. Лугаль платит ему, как рабу – полмеры зерна в день. Говорят, он и того не съедает. Говорят, Булалум его насильно есть заставляет. Чем только и живёт… Воистину, лучшая пища для демона – человечьи души. А вот кто богатеет, так это Мескалам-дуг. Ему все платят: и мы, торговые люди, и угулы на строительстве. Да и ты, в город заходя, мыто платил?
– Очень большое!
– Это всё лугалю идёт. Якобы на постройку башни. Только врёт он, алчная тварь. Он недавно к своему дворцу новые кладовые пристроил. Из обожжённых кирпичей.
Стемнело. Пирамида, чуть освещённая багровым пламенем обжиговых печей, своим зловещим тёмным контуром закрывала звёзды. На Шубада и его гостя налетели полчища комаров, от которых им пришлось скрыться, войдя в дом и разведя огонь в очаге.
Налив из кувшина воды в медный сосуд, Шубад поставил его на огонь, чтобы приготовить ещё травяного отвара. Потом спросил:
– Сам-то ты зачем пожаловал? Никак демона нашего убить хочешь, чтобы он башню не построил, и Сеннаар не смог возвыситься над Аккадом?
– Одно время у нас того и хотели, – ответил Убар с улыбкой. – Говорили: построит Сеннаар башню высотой до небес, с неё будет всю нашу землю видеть, и сможет нас поработить.
– Правильно ли я понял – ваши помыслы переменились?
– Появились те, кто стал говорить другое, мол, такая башня, будь она построена, возвысит не только Сеннаар, но и всю нашу землю. Мы станем выше не только сирийцев, но и жителей самого Кемета, и даже людей с раскосыми глазами, живущих далеко на востоке. Они также говорят: велик тот, кто будет этой башней обладать.
– Не тот, кто построит, а тот, кто будет обладать… Только не построит Игихуль свою башню. Ты сам видел: это строительство подточило Сеннаар. Скоро мы все с голоду умрём…
– Не к лицу торговому человеку делать поспешные суждения.
– В чём же я не прав?
– Те люди говорят ещё и такое: Сеннаару надо помочь. Башня должна быть построена. А там поглядим…
– Удивительные вещи ты рассказываешь, Убар! – воскликнул Шубад и, спохватившись, поспешно снял с огня сосуд с водой, которая уже закипела.
– Я тебе больше скажу, – продолжал Убар. – Вскоре соберутся в Аккаде послы со всей нашей земли: от луллубеев, гутеев, хурритов, касситов, амореев*, даже из Нима придут. Будет совет. На нём хотят заключить союз племён. Мысль такая: все вместе построим башню в Сеннааре и будем жить, без распри и войн. Башня же будет вечным знаком нашего союза. Только сначала на том совете я доложу сведения, что привезу отсюда.
– Союз – это хорошо… – сказал Шубад, разливая напиток, и замолчал.
– Договаривай.
– Сколько бы муж женой вместе не прожили, всё равно главный среди них кто-то один.
– К чему ты клонишь?
– Главным и у зверей, и у людей становится тот, кто сильнее. Сильнее всех сейчас Аккадский царь. Не хочет ли он с помощью этой башни создать себе империю…
– Поживём – увидим, – усмехнулся Убар.
– – –
– Выдайте нам вашего демона! Демона! Демона сюда! – кричали из толпы, бесновавшейся у подножия пирамиды.
Черноголовых в той толпе было всего несколько человек. Большинством там были воинственные хурриты. Были там и амореи, и другие пришельцы появившиеся в Сеннааре полгода назад. Сейчас они стремились прорваться на верх пирамиды, где виднелись устремившиеся в небо первые этажи Игихулевой башни, где был и сам Игихуль, никогда не спускавшийся вниз.
Их намерениям препятствовали аккадские воины, оборонявшие подступы к двум лестницам, пристроенным к пирамиде. Силы были равными: аккадцев было хоть и меньше, но они превосходили противников выучкой и вооружением. Их тела были покрыты доспехами, а в руках они держали крепкие щиты. Длинными мечами они умело разили атаковавших, вооружённых только ножами, камнями, да палками.
Часть нападавших, отчаявшись побиться к лестницам, стала карабкаться по стенам пирамиды, цепляясь руками и ногами за малейшие выступы. Их манёвр поначалу удался – самые ловкие смогли подняться локтей на десять – двенадцать. Однако ликование их было недолгим. Сверху посыпались кирпичи. Катясь вниз по склонам, они набирали такую скорость, что, попав поднимавшимся в головы, разбивали их, усеивая стены пирамиды кровавыми брызгами.
Нападавшие, бывшие в задних рядах, уразумев, что их намерение подняться на пирамиду не будет иметь успеха, предоставили свой авангард произволу её защитников и стали вымещать злобу на бывших неподалёку печах для обжига кирпичей. Свирепо набросившись, они в считанные мгновения превратили две из них в груды непотребного хлама. Оставшиеся были спасены подоспевшим отрядом аккадской кавалерии. Налетев, словно шквал, конники беспощадно расправились с бунтарями, изрубив их саблями и исколов пиками.
Пока аккадцы добивали раненых и убегающих, их командир, спешившись и вручив повод своего коня ординарцу, ступив на лестницу, начал длинный подъём на пирамиду.
Наверху его ждал отнюдь не ласковый приём. Вход в первый этаж башни был завален кирпичами. Строители же, сплошь черноголовые, находились перед этим завалом. На их лицах написана была решимость оборонять свою крепость до последней капли крови. Они были вооружены ножами, хурритскими кинжалами и другими предметами, которые в их сильных руках приобрели убийственные качества.
Аккадский командир не дрогнул при виде такого проявления враждебности.
– Мне нужен Игихуль! – громко сказал он, презрев направленные в его сторону орудия убийства.
– Уходи чужеземец! Ты не можешь быть здесь, в этом святом месте! – стали кричать защитники башни.
– Перед вами принц Аккада, ничтожные! – громовым голосом произнёс аккадец. – Достаточно одного моего слова и от вас, собаки, костей не останется!
– Чего ты хочешь Убар? – спросил визгливый голос из глубины постройки. Крики в тот же момент смолкли.
Строители разошлись в стороны, образовав проход, в конце которого показалась тщедушная фигура, закутанная в рваную хламиду. Когда Игихуль двинулся вперёд по этому проходу, его почитатели благоговейно отвели взгляд и старались держаться так, чтоб он их не коснулся.
– Хочу узнать, как долго будет длиться твоя затея, – сказал Убар, когда Игихуль подошёл к нему, тяжело припадая на правую ногу.
Аккадцу он был по локоть. Ужасно худ – сквозь тонкую, словно пергаментную, кожу его обнажённых рук и ног отчётливо проступали кости и сухожилия. Правое колено раздулось и, как видно, доставляло ему нестерпимые страдания. Если бы не цепкий взгляд единственного глаза, которым он впился в Убара, его обтянутый землистой кожей череп можно было бы счесть черепом мертвеца, только что извлечённого из могилы.
Откуда-то появился человек огромного роста и, поставив маленький табурет рядом с Игихулем, помог ему сесть. Затем он осторожно выпрямил его правую ногу и укутал больное колено краем хламиды.
– Всё-всё, Булалум, иди, – тихо произнёс Игихуль, коснувшись рукой головы гиганта. – Мне надо поговорить с принцем.
Убар, поняв, что ему седалища не достанется, присел на кучу кирпичей.
– Моя, как ты говоришь, затея будет длиться, пока башня не достигнет тысячи локтей, – сказал Игихуль, отвечая на вопрос Убара.
– Хочешь приблизиться к богам? – спросил тот с усмешкой. – Не боишься, что они разгневаются и покарают тебя за гордыню?
– Посмотри на меня. Посмотри, в каком теле твои боги вынудили меня существовать. Можно ли покарать ещё больше?
– Вот оно как: ты – одно, твоё тело – другое! Я-то, глупец, полагал, что моё тело это и есть я. Мои ноги, которые меня носят, мои руки, могущие держать меч, мой детородный орган, который доставляет мне столько удовольствия…
– Твоими деяниями управляет твой детородный орган?
– Кому-нибудь другому за такие слова я б отсёк голову!
– Так отсеки! Чего медлишь? Но кто тогда башню построит? Ведь ради неё ты пригнал сюда тысячное войско и народу неисчислимо со всех окрестных земель. Хочешь владеть самой высокой постройкой на земле. Так кого тут гордыня обуяла?
– Моя гордыня приносит мне власть и богатство. А ты живёшь, как рабы не живут.
– С нашей смертью всё перемениться.
– Вот на что ты надеешься! Зря. Ничего не переменится. Когда ты умрёшь, тебя зароют в общей яме с другими грязными рабами. А на мою могилу ещё многие поколения будут дары приносить.
– Когда эта бренная оболочка, в которой я существую, перестанет дышать и станет непотребным мусором, её действительно зароют. Но сам я – мой дух, мои идеи – останусь в моём творении, в этой башне. Пройдут годы – твоя могила зарастёт травой, и о ней забудут. О башне же, даже если она рухнет, будут помнить тысячи лет.
– Бессмертие доступно лишь богам.
– Богов придумали люди, чтобы обозначить пределы своих возможностей.
– Гляжу, у тебя на всяк вопрос есть ответ.
– В этом мире не так уж много настоящих Вопросов. И на каждый есть только один правильный Ответ.
– Как-нибудь на досуге я найду эти ответы.
– Сначала найди Вопросы.
Наступило молчание. Убар о чём-то размышлял, поигрывая кистями, что украшали рукоять его меча. Игихуль пристально на него смотрел, по его неподвижному лицу трудно было понять, о чём он думает. За спиной Игихуля, затаив дыхание, стояли его почитатели.
– Хоть убей, не могу тебя понять, Игихуль, – нарушил молчание Убар. – Взять меня – какое мне дело до вечности? Я живу сегодня. Сегодня моё тело требует удобной одежды, сегодня мой желудок требует вкусной еды, сегодня мой детородный орган требует женщины. Всё это у меня есть. И ты мог бы иметь многое, даже невзирая на твою наружность, – в этом мире можно добиться всего, было бы желание. Вместо этого ты при жизни вверг себя в адову пучину. Ради того, чего сегодня нет, а будет после смерти. Да и будет ли? Не понимаю! Объясни!
– Этого нельзя объяснить – ты должен понять сам. Сам найти Вопросы и сам отыскать на них Ответы. У тебя может получиться – ты наделён разумом. Если такое случится, ты сам, по доброй воле, оставишь свою красивую одежду, вкусную еду, женщин и будешь класть кирпичи вместе с нами.
– А если у меня не получится?
– Тогда ты станешь великим правителем, и многие поколения будут приносить дары на твою могилу. Потом будут другие великие правители, и дары будут приносить на их могилы.
– – –
– Не надо было заставлять хурритов делать кирпичи. Они привыкли ходить за стадами, да воевать за пастбища. Им, не то, что работать, жить на одном месте тяжело, – сказал Шубад.
– Кто-то же должен делать кирпичи! У вашего лугаля полные закрома зерна, а он продаёт его по такой цене, которую даже мы, аккадцы, не можем ему заплатить, – возразил ему Убар. – Не отпусти я черноголовых на их поля, строительство останется совсем без хлеба,
Они шли к башне по полю, изрытому ямами, из которой брали глину.
– Черноголовые умеют строить. А тот сброд, что сюда согнали отовсюду, может только разбойничать, – сказал Шубад. – Вчера на соседней улице ограбили пекаря, вынесли всё, что в доме было.
– Я не могу поставить по солдату на каждом углу! Они нужны на строительстве. Там постоянно кто-то бунтует. Вчера хурриты, позавчера луллубеи. Завтра ещё кто-нибудь. Их начальники целыми днями пьянствуют во дворце. Порядок поддерживать приходится мне одному. Если бы ты знал, чего стоит заставлять работать этих скотов! – воскликнул Убар. – Куда ты меня ведёшь?
– Да мы уже пришли, – сказал Шубад.
Они остановились у одной из ям, не доходя ста локтей до основания башни.
– Вчера, когда начался ливень, я стоял на этом самом месте, – сказал Шубад. – Эта яма наполнилась за считанные минуты.
– Пошёл дождь – яму залило, – сказал Убар, глядя на глиняную жижу. – Что тут необычного?
– Яма заполнилась не сверху, а снизу. И очень быстро, – объяснил Шубад.
– Что ты хочешь сказать? – спросил Убар неохотно.
– Яма заполнилась из башни. Погляди – те ямы, что дальше от башни почти пусты.
– Почему это меня должно интересовать?
– Башня разрушается.
– Что за чушь ты говоришь? – воскликнул Убар. – Как такое огромное сооружение может разрушиться из-за какого-то дождя?
– Когда брали глину, в земле вырыли много глубоких ям. Из-за них дождевые воды соединились с подземными и пошли под башню. Они размывают её основание. Когда идёт дождь, вода просачивается сквозь щели между кирпичами и выносит раскисшую глину наружу.
– Как такое может быть? Посмотри, какие кирпичи крепкие. Разве они могут размокнуть в воде?
– Такие только сверху. Когда Игихуль научился обжигать, он предложил Мескалам-дугу разобрать то, что было построено раньше, и сложить заново из обожжённых кирпичей. Тот ему отказал и распорядился только обложить ими башню снаружи. Внутренность основания глиняная. Её размывает вода.
– Зачем мне все эти строительные тонкости?
– Если в сезон дождей будут сильные ливни, башня рухнет.
– Что ты предлагаешь?
– Отвести воду от башни. Сделать, как предлагал Игихуль. Немедля снять всех людей со строительства и расширить русло Бурануна. Тогда его уровень упадёт, и он заберёт себе грунтовые воды.
– Демон Игихуль и твой разум повредил, Шубад! Ты же видишь, что происходит на строительстве! Никто не хочет работать. Угул не слушают. Сегодня утром одному не понравилось, как кассит месит глину, так он ему проломил голову. Каждое племя считает, что должно получать больше других. Драки происходят постоянно, по три-четыре на день. А теперь представь, что будет, если этому сброду велеть всё бросить и идти раскапывать реку!
– Представь, что будет, когда башня рухнет!
– Что могу сделать я? Здесь главный – Мескалам-дуг. Пусть соберёт царей, которым эта башня нужна, и решит это вопрос.
– Не станет он этого делать. Он уже пожалел, что пустил их сюда. Теперь у него одна забота – чтоб его не свергли. Во дворце постоянные пиры, чтобы гости были всегда пьяные и не могли сговориться. Единственные люди, которые здесь что-то решают – это Игихуль и ты, Убар. Но только у тебя есть сила – твои воины.
– Мои солдаты тоже недовольны, – устало сказал Убар. – Башни боятся. Говорят, если нигде нет таких построек, значит боги того не хотят. Они даже не требуют увеличить плату. Только хотят, чтобы их отправили домой.
– Отправь.
– Отец замену не пришлёт. Ему самому солдаты нужны, – скривился Убар.
– Если башня рухнет, союз племён развалится. Сразу начнётся война.
– Аккад к ней готов.
Шубад, помедлив, сказал:
– Что ж получается… Пока племена тратили силы на башню, Аккад готовился их захватить? Союз был западнёй?
Убар столкнул камушек в яму. Глядя, как на поверхности жёлтой жижи расходятся круги, он произнёс:
– Такой исход тоже был предусмотрен.
– Поистине, не у одного Игихуля демон украл душу! – воскликнул Шубад.
– – –
– На строительстве работники бунтуют каждый день. Кричат, что им недоплачивают, – сказал Убар. – Все недовольны: мои аккадцы, касситы, луллубеи, хурриты – все!
Мескалам-дуг не спешил отвечать. Он кушал пшеничную лепёшку, обмакивая её в мёд. Доев и, не спеша, облизав один за другим пальцы, он сказал, скривив губы:
– А я при чём? Почему с этим ты пришёл ко мне?
Глядя, как по тройному подбородку лугаля стекают жёлтые капли, Убар воскликнул:
– Потому что ты зерна не даёшь!
– Я зерна не даю? – презрительно ухмыльнулся Мескалам-дуг. – Ты ничего не забыл, аккадец? Не забыл, на каких условиях я согласился вас всех сюда пустить? Если башня будет построена, вы сможете все, по очереди молиться на её вершине. Поэтому и строить её будете все. Но платить своим работникам каждый будет сам. Говоришь, луллубеи чем-то недовольны? Так иди к луллубеям и разбирайся, кто им не платит и почему.
– Это ты что-то забыл, лугаль! – возразил Убар. – Мы решили, что своё зерно везти сюда не будем. Будем ваше храмовое покупать…
– Это вы сами придумали! Я только согласился, – перебил его. – Тогда была возможность. Но сейчас, извини, Сеннаар в затруднении. Поля пустые, люди в храм зерна не несут.
– А я другое слышал, – сказал Убар, глядя исподлобья. – Говорят, ты разрешаешь Анунаки отпускать зерно только, если тебе за это платят. Говорят, с десяти мер две ты берёшь себе.
– Мало ли что говорят… – пробурчал Мескалам-дуг, вытирая ладонью вспотевшее лицо. – Не всем можно верить.
– Мне это один хурритский угула рассказал, – сказал Убар. – Он это под пыткой рассказал. Думаю, верить можно.
– Ну и что?
– Донесу об этом отцу… Ты не забыл, сколько наших воинов сейчас на твоей земле?
Мескалам-дуг некоторое время рассматривал Убара. Затем прошипел сквозь зубы:
– Грозить мне вздумал, аккадец?
С кряхтеньем он поднялся с ложа, подошёл к одному из сундуков, что были в трапезной, и достал из него два глиняных сосуда. Поставив их на стол, сказал:
– Гляди, аккадец! Вот две меры для зерна. Они разные. Одна больше, другая меньше. Та, которая больше – наша. Меньшая – это та, которой твои аккадские угулы отмеривают зерно в уплату вашим работникам. Что скажешь?
Убар промолчал – он был застигнут врасплох. Мескалам-дуг продолжил:
– Будешь доносить отцу на меня, заодно донеси и на себя. И не говори, что ты об этом не знал! Не мог не знать – ты среди аккадцев главный. Ваши угулы не сами придумали маленькие меры. Ты их надоумил!
– Да я не!.. Да как ты смеешь!? – вспылил было Убар.
– Смею, аккадец, смею. У меня тоже есть свои глаза и уши. Зачем тебе такой большой обоз? Говорят, там очень много повозок с шатрами. Что ты там хранишь? И так всем понятно…
– Не думаешь ли ты, что я?..
– Думаю! Ибо какая тебе выгода столько лун сидеть в Сеннааре? Или ты тоже, как малоумный Игихуль, хочешь подняться в небо? Не смеши меня!
– Я – воин, а не вор! – воскликнул Убар, положив руку на рукоять меча.
При виде его решимости Мескалам-дуг сперва побледнел, но быстро взял себя в руки.
– Ты не убьёшь лугаля, аккадец. Ибо тогда начнётся война. Причём раньше, чем твой отец её задумал.
Убар вынул до половины меч из ножен и со стуком вернул его обратно.
– И вообще, аккадец, веди себе скромнее, – как ни в чём ни бывало заметил Мескалам-дуг.
– Не то что? – спросил Убар.
– Не то я сам обо всём расскажу твоему отцу.
– У тебя нет доказательств!
– А зачем они мне? Я поступлю, как поступил ты – пришёл в мой дом и обозвал меня вором, – сказал Мескалам-дуг, глядя на Убара и откровенно наслаждаясь смятением, в котором тот пребывал. – Нет, зачем? Я не пойду к твоему отцу. Я пойду к его придворным. А ещё лучше, когда они приедут сюда, приглашу их на пир и покажу эти две меры.
– Меня хорошо знают. Всем известна моя честность! Тебе не поверят!
– Ещё и как поверят! А знаешь почему? Потому что каждый из них на твоём месте так и поступил бы – набивал бы свой карман. А кому они не поверят, так это тебе. Не поверят, что ты ничего с этой башни не поимел.
– Хочешь меня грязью вымазать? Мне ничего с твоей болтовни не будет! Я – принц Аккада!
– Да, принц Аккада, тебе ничего не будет с моей болтовни. Сейчас. Но когда твой отец умрёт и тебе придётся бороться за трон… А тебе придётся бороться за трон – у тебя много братьев. Вот тогда эта история и всплывёт.
Убар молчал, с ненавистью глядя на Мескалам-дуга.
– Что молчишь, аккадец? – с издёвкой сказал тот. – Возразить нечего? Вот и не возражай. Иди-ка на строительство и следи там за порядком. Башня должна строиться. Пока она строится, всем нам хорошо.
– – –
Жирные чёрные тучи изливали с небес плотные струи воды, превратившие тихий Буранун в бурлящий поток, разлившийся на много ашлов от обычного русла. Вода, жёлто-красная от глины и крови, несла на себе ужасные последствия недавнего побоища: изуродованные человеческие тела, обломки воинской амуниции, строительный хлам.
Всё началось с обычной перепалки. Один из касситов стал кричать угуле, что он не собирается копать глину под проливным дождём за полмеры гнилого зерна. Угула ударил кричавшего. Тому на помощь прибежали несколько человек. Завязалась потасовка, к которой присоединились работавшие поблизости. В ход пошли ножи, полилась кровь.
Когда на место прибыл Убар с небольшим отрядом аккадцев, в драке участвовали уже десятки работников, и со всех сторон к ним прибывало подкрепление. Стремясь прекратить безобразие, Убар принялся отдавать приказы. Но тут случилось то, чего он меньше всего ожидал. Дерущиеся, оставив свои раздоры, со всех сторон набросились на его воинов. Аккадцы растерялись, и это многим из них стоило жизни. Используя численное превосходство, работники в считанные минуты разгромили отряд Убара. Сам же он метался в озверевшей толпе, пытаясь хоть как-то организовать своих людей, пока какой-то работник не ударил его ножом. Нож скользнул по кирасе, оставив на ней глубокий след, и глубоко вонзился в ногу, лишив Убара возможности ходить. Прежде, чем упасть, тот успел мечом отсечь руку нападавшему. Верный ординарец оттащил его в безопасное место.
С аккадцами покончили быстро, и побоище продолжилось. Шум его достиг лагерей племён, разбитых неподалёку от строительства, и их обитатели, побросав дела, устремились на выручку к собратьям. Из городских ворот к тому месту хлынула толпа черноголовых.
Последней прибыла аккадская кавалерия. Воины с помощью пик и мечей стали вразумлять дерущихся. Но те, снова по забыв о взаимных обидах, обратили на них весь свой гнев и расправились с ними столь же решительно и жестоко, как и с первым отрядом.
Вскоре всё пространство, занимаемое строительством – от пирамиды до разлившегося Бурануна – превратилось в поле битвы, которая продолжалась под проливным дождём. Хлещущие по разгорячённым лицам водяные струи, вспышки молний и удары грома только усиливали ярость дерущихся. Все убивали всех просто ради убийства. Людьми двигала ненависть, порождённая чужбиной, жизнью впроголодь, изнурительным трудом во имя непонятной цели. Разум оставил их. Они убивали, круша всё, что попадалось под руку: формы для кирпича, повозки, обжиговые печи.
Побоище закончилось довольно быстро. Последствия его были ужасны. Поле битвы было усеяно окровавленными трупами, между которыми под струями дождя бестолково бродили уцелевшие, число которых было крайне мало. Велики были и другие потери. Было разрушено всё, что годами создавалось для единой цели – постройки величайшего сооружения всех времён.
Убар полулежал, прислонившись к стене пирамиды недалеко от единственной уцелевшей обжиговой печи. Пока ординарец перевязывал глубокую рану на его бедре, он пытался разглядеть за дождевой занавесью её вершину. Там не могли не слышать шум битвы.
Его предчувствие сбылось. Он скорее угадал, чем увидел, что по лестнице спускаются люди. Вскоре можно было явственно различить последователей Игихуля и самого его, бережно несомого на руках верным Булалумом.
Наконец процессия, спустившись по лестнице, ступила на землю. Игихуль, заметив Убара, что-то тихо сказал Булалуму, и тот усадил его на камень рядом с принцем.
– Как видно, боги наказали тебя, Игихуль, – сказал Убар вместо приветствия. – Не суждено твоей башне достичь небес. Не видать тебе бессмертия.
Игихуль ничего не ответил. Он смотрел на то, что буквально только что было строительной площадкой.
Дождь прекратился, тучи разошлись, и солнечные лучи осветили ужасную картину. При её виде среди последователей Игихуля стали раздаваться стоны и плач. Некоторые сели на землю и стали, рыдая, бить себя по голове. Другие впали в оцепенение, стремясь таким образом защититься от осознания того, что их мечте уже не суждено сбыться.
Игихуль молчал долго. Вдруг дыхание его участилось. Он повернулся к Убару.
– Убар, почему ты здесь? – спросил он.
Принц не нашёлся что ответить – не ожидал такого вопроса.
– Почему ты приехал сюда? – повторил Игихуль. Он показал рукой на простиравшуюся перед ними картину. – Почему все эти люди здесь?
– Потому что ты затеял строить башню, – подумав, ответил Убар.
– Вот именно! – воскликнул Игихуль. – Вот именно! Не потому, что я её построил. А потому что я ЗАТЕЯЛ её строить!
Убар молчал, пытаясь понять, к чему клонит Игихуль. Тот продолжил:
– Пойми, Убар! Мир, в котором мы живём, создан идеями. Всё на свете, каждая вещь, появилось только потому, что какому-то человеку пришла в голову идея её создать. И каждый раз после этого мир менялся, становился другим.
– Этот мир создали боги, – возразил Убар.
– Даже если этот мир создал какой-то бог, он сначала должен был его придумать.
Игихуль отвёл взгляд от Убара и стал смотреть на угли, тлеющие в обжиговой печи.
Убар спиной почувствовал какое-то движение. Будто стена, к которой он прислонился, вздрогнула. Прислушался: движение не повторилось. Он сказал:
– Не спорю, всё сущее кем-то придумано. Я о другом. Взять хотя бы обычное колесо. Великое множество колёс ездит по разным дорогам, но человек, придумавший первое колесо, умер и всеми забыт. Никто не знает его имени. Никому оно не надо! Всем нормальным людям наплевать! Какое же это бессмертие? Зачем тратить жизнь на то, чтобы изобретать колёса? Какой смысл делать то, что не приносит выгоды?
Убар вновь ощутил, что пирамида вздрогнула. На этот раз движение сопровождалось глухим стуком изнутри.
– Не знаю, как тебе объяснить, Убар, – сказал Игихуль задумчиво. – Беда в том, что такие, как ты – по твоим словам, нормальные люди, – не в состоянии понять таких, как я.
– Вы умные, а мы глупые? – криво ухмыльнулся Убар.
– Почему? Просто мы с тобой живём в одном мире, но смотрим на него по-разному.
– Я знал сотни людей. А может и тысячи. Все думают, как я. Все люди думают одинаково. Ты единственный, кто думает не так. На умалишённого ты не похож. Может, ты действительно не человек, Игихуль? Может, ты таки демон во плоти?
– Мой образ мыслей настолько тебе чужд, что ты отказываешь мне в праве быть человеком, – сказал Игихуль и повернулся к печи. – Когда-то я пообещал Мескалам-дугу: если башня не будет построена, я сам отправлюсь в Преисподнюю и стану пожирающим души демоном.
Теперь Убар отчётливо ощущал, что пирамида вздрагивает. Слабые толчки шли один за другим через короткие промежутки времени, сопровождаемые хорошо различимым треском. Спутники Игихуля в тревоге стали прислушиваться. Сам же он то ли ничего не слышал, увлечённый беседой, то ли не придавал этому значения.
Просвет в тучах закрылся, и всё вокруг погрузилось во мрак. Поднявшийся ветер раздул жар углей. В багровых отблесках уродливое лицо Игихуля совсем утратило человеческие черты. На короткий миг Убару показалось, что рядом с ним на камне сидит жуткое потустороннее существо.
– Убар, скажи, зачем человек рождается на свет? – спросил Игихуль.
– Ну, это простой вопрос, – усмехнулся Убар. – Я родился, чтоб унаследовать трон отца. А какой-нибудь раб родился, чтоб быть рабом.
– А бык рождается, чтобы быть быком, собака – собакой.
– Так решили боги.
– Тогда чем ты лучше собаки?
– Я принц Аккада! – вспылил Убар.
– Ты всего лишь один из людей. Рождённый, чтобы сыграть отведённую тебе роль, а потом умереть, уступив место другому такому же.
– Да! Я рождён, чтобы править Аккадом. После моей смерти будет править мой сын, после его смерти – его. Таков извечный порядок вещей. Ты, просто мне завидуешь, как и все вы, убогие рабы.
– Я не раб, Убар. Я сам управляю своей жизнью. Решил строить башню – начал строить. А вот ты – раб. Раб извечного порядка вещей. Ты неспособен изменить этот мир.
– Я буду правителем Аккада! Когда я получу власть, моё могущество станет безмерным. Я захвачу все земли до самого Кемета. А может, и его захвачу. Я создам самую великую империю на земле. Империю Убара! Мир станет моим! Он изменится!
– Мир меняется, когда в нём появляется то, чего не было раньше. А империя… Сколько их было, и сколько ещё будет… Таков извечный порядок вещей. Ты мечтаешь о могуществе? Придумавший колесо могущественнее десятков правителей. Он действительно изменил мир. А такие, как ты, не могут создавать нового. Вы способны только присваивать. Вами движет выгода.
– Да! Мною движет выгода! Миром движет выгода! Не какие-то там идеи, а выгода! Каждый делает только то, что ему выгодно!
– Какая же моя выгода от этой башни, Убар? – спросил Игихуль, не отводя взгляда от печи.
– Этого я не понимаю. Ты – ничтожный червь, нищий калека. Ты живёшь хуже последнего раба… Похоже, ты таки демон, и твоя выгода увести в Преисподнюю как можно больше душ.
Стук внутри пирамиды стал громче. Стена уже не вздрагивала – сотрясалась. Спутники Игихуля, придя от этого в смятение, один за другим со стенаниями падали на колени, воздев руки к небу.
Игихуль словно не замечал происходящего. Он тяжело вздохнул и, собравшись с силами, встал на ноги, отвергнув помощь подоспевшего Булалума. Сделав шаг к печи, он повернулся к Убару:
– Выгода неспособна ничего создать, Убар! Выгода рождает только ненависть. Посмотри на этих мертвецов. Что их убило? Ненависть, которую породили те, кто их обворовывал к своей выгоде. Наш мир создан не выгодой, а идеями. Не было бы идей, и не было бы ни колеса, ни металлических орудий, ни наших домов – ничего, что отличает нас от диких зверей. Подумай, Убар, принц Аккада! Я – ничтожный червь, нищий калека. Но однажды в мою уродливую голову пришла идея построить башню высотой до неба. И извечный порядок вещей нарушился. Мир изменился! Оглядись вокруг: без моей идеи не стояла бы эта исполинская пирамида, не пришли бы сюда племена со всей нашей земли, да и тебя самого тут бы не было. Да, я не закончу постройку. И её основание, эта пирамида долго не простоит. Но в памяти людской она сохранится, а вместе с ней и моя идея – идея подняться в небо! Пройдут годы, пусть сотни, тысячи лет, но однажды кто-нибудь – возможно, такой же изгой, как и я, – всё-таки коснётся рукой облаков. И тогда мир измениться снова!
После этих слов Игихуль бросился в пылающую печь. Ни крика, ни стона не донеслось из неё. Только вскоре оттуда повалил густой чёрный дым.
– – –
Раздался оглушительный треск. На стене пирамиды обозначилась трещина, уходящая далеко вверх. С ужасным скрежетом трещина стала расширяться. Из её глубин полилась жидкая глина. Её поток всё увеличивался, и вот уже из низа стены забил грязно-жёлтый фонтан.
Последователи Игихуля вскочили на ноги и в ужасе бросились бежать. Лишь Булалум не двинулся с места. Рыдая, он стоял на коленях у печи, прижавшись к ней всем телом. Ординарец подхватил Убара себе на плечо, и они вдвоём, как могли, поспешили прочь.
С верха башни с грохотом покатились кирпичи. Некоторые настигали бегущих и наносили им увечья. Один ударил Убару в спину, благо она была защищена кирасой.
Вновь раздался громкий скрежет. Земля задрожала и пришла в движение. Часть стены вместе с землёй, на которой она стояла, сдвинулась с места и поползла, преследуя бегущих. В пирамиде образовался провал, в который посыпались сначала кирпичи, а потом целые куски этой и соседних стен. Стоял непрекращающийся грохот. Над пирамидой поднялось облако пыли.
Земля под ногами бегущих тряслась так, что люди, теряя опору, падали в жидкую грязь. Сотрясение земли дошло до города, и там обрушилась часть крепостной стены и многие дома.
Вдруг раздался мощный удар, потом ещё один, потом ещё и ещё. Удары слились в оглушительный громоподобный рокот. Это рухнула верхняя площадка пирамиды вместе с этажами башни Игихуля.
Вскоре после этого грохот прекратился. Наступила тишина, в которой были слышны доносившиеся из города крики отчаяния несчастных горожан.
– – –
В следующее после тех событий полнолуние аккадский правитель Илум-мупаггир со своей армией подошёл к этому городу. Жители не оказали отпора, и осады не было. Однако радость завоевания, охватившая аккадских воинов, сменилась разочарованием. Войдя в город, они нашли его обезлюдевшим. Храмы и жилые дома большей частью были пусты. Те жители, которые не бежали или умерли от голода и болезней влачили жалкое существование среди руин своих жилищ.
Стража, набранная из горожан, охранявшая дворец лугаля, пыталась оборонить своего правителя, но попытка эта была слаба. Войдя во дворец, завоеватели нашли его, в отличие от остального города, утопающим в роскоши. Хранилища были переполнены зерном. Правда, большая его часть была поражена плесенью и не годилась даже на корм скоту.
Самого же Мескалам-дуга отыскали прячущимся в одном из дальних покоев. Илум-мупаггир припомнил, как тот не пожелал расплатиться с Аккадом за помощь в свержении отца и своё восшествие на престол. За это, аккадский правитель, приказал привязать Мескалам-дуга к столбу. Затем самолично стал отрезать от него, ещё живого, куски плоти и бросать своим голодным псам.
После этого Илум-мупаггир повелел своему сыну Убару сопроводить его на место строительства. При виде гигантской бесформенной груды, которая осталась от «башни высотой до небес», огромных ям, откуда брали материал, исполинских печей, обширного кладбища, правитель пришёл в смятение.
Оправившись от потрясения, Илум-мупаггир призвал своих архитекторов и повелел снести окружавшую город ветхую крепостную стену и выстроить новую из кирпичей, оставшихся от башни.
Узнав, что эту постройку называли «Врата к богу», он сказал, что это не врата, ведшие к богу, а врата самого бога, через которые тот, увидев содеянное людьми, наказал их за гордыню. Впоследствии то место так и стали называть: «Врата бога» – Вавилон.
Днепропетровск, 2011–2014
← Сеннаар – древнее самоназвание Шумера.
← Идигна и Буранун – шумерские названия рек Тигр и Евфрат
← Игихуль – больной глаз (шумерск.).
← Три локтя и восемнадцать пальцев – 150 сантиметров.
← Димузи – шумерский бог пастух и скотовод
← Лугаль – царь, господин, дословно – «большой человек» (шумерск.)
← Угула – надсмотрщик (шумерск.).
← Димузи, Энлиля и Инанны – шумерские боги
← Черноголовые – самоназвание шумеров
← Энси – властелин, закладывающий основы (шумерск.)
← Кемет – древнее самоназвание Египта
← Чёрной смолой – природным асфальтом
← Тысяча локтей, пятьдесят локтей – 400 и 20 метров.
← Одна мера – 0,5 литра.
← Ашл – шумерсакая мера длины, примерно 48 метров
← Бур – шумерская мера площади, примерно 6,5 гектар
←Луллубеи, гутеи, хурриты, касситы, амореи – племена, населявшие Мессопотамию.
Рассказ о человеке, который знал день своей смерти
Когда-то давно жил в портовом городе Басре некий человек. Звали его Харис. Был он одинок. Не было у него ни жены, ни подруги. Ибо ничего не мог он предложить прекрасным девам, потому как был поражён бедствием столь же неотвратимым, сколь и беспощадным, имя которому – бедность. Не было у него ни верблюда, ни коня, ни осла. Даже приличного казана, чтобы сварить плов не было в его убогом доме с проваленной крышей. Да и зачем ему был нужен казан, если мясо он ел только по большим праздникам, когда богатые люди делились им с бедняками. Питался он только лепёшками и рисом, запивая водой. Эту скудную еду он мог себе позволить на те гроши, которые зарабатывал, разнося воду на рынке Басры и предлагая её всем, кто нуждался в утолении жажды.
Правда, было у него одно сокровище. Но сокровище то было странным. То была золотая монета, на которой был выбит профиль человека. Эту монету перед своей кончиной вручил ему отец.
Тогда отец сказал: «Эту монету, сын, я получил от своего отца, а тот – от своего. Когда-то давно её дал нашему дальнему предку сам Искандер за какую-то услугу, которую тот ему оказал. Не знаю, что это была за услуга, отец мне не сказал, но только с тех пор над нашим родом довлеет проклятие. Сын! Поклянись, что выполнишь то, что я тебе велю! Никогда, ни при каких условиях, даже если будешь умирать от жажды или голода, не трать эту монету! Если на тебя нападут разбойники и будут тебя живьём резать на части, не отдавай им эту монету! Если прекрасная дева тебя обольстит и будет у тебя выпрашивать, не отдавай ей эту монету! Но когда к тебе подойдёт грязный нечёсаный нищий и, назвав тебя по имени, попросит отдать её – сразу отдай и ни о чём не спрашивай! Лишь тогда с нашего рода будет снято проклятие. Если, когда ты будешь умирать, монета всё ещё будет с тобой, передай её своему сыну с этим же наставлением».
Похоронив отца, Харис вернулся в свой дом и долго любовался золотым блеском старинной монеты с выбитым на ней человеческим профилем. Как хотелось ему сходить с ней на базар и накупить еды, чтобы хоть раз в жизни вдоволь наесться! Но он свято выполнял заповеди о почтении к воле умерших, ибо так написано в Великой Книге. И потому он завернул монету в свой кушак, подпоясался им и отправился на базар. Но не для того, чтобы купить еды, а чтобы продолжать разносить воду, получая за это мелкие медные деньги.
Часто, когда никто не видел, Харис доставал монету. Он любовался её золотым блеском и мечтал о том, что бы купил, если бы решился её потратить. Но потом на ум ему приходило завещание отца, да и жалко было расставаться с таким сокровищем. Со вздохом он прятал монету и возвращался из страны грёз к своей нищете.
Однажды перед заходом солнца Харис сидел на пороге своей лачуги и медленно жевал сухую лепёшку. Голова его была пуста, ибо не о чём ему было думать. Впереди был ещё один унылый вечер, за ним – трудный день, потом опять вечер без радости, и так – до скончания века. Уныние и печаль давно поселились в его сердце. Он даже не повернул головы, когда рядом с ним на порог его дома, не спросив разрешения, присел какой-то человек.
– Мир тебе, о Харис! – сказал незнакомец, обдав Хариса дурным запахом изо рта, который обычно исходит от голодных людей.
– И тебе мир, добрый человек, – ответил он, отломил кусок лепёшки и, не глядя, протянул её путнику. Затем спросил не из интереса, а из вежливости: – Кто ты, куда путь держишь и откуда ты сам?
– Кто я? Давно уже никто. Бедный дервиш, который знает ответы на многие вопросы. А откуда я – не помню: так давно живу на свете.
– Но если ты так мудр, то почему беден? Если бы я знал ответы на все вопросы, то нашёл бы способ разбогатеть.
– Ответы на все вопросы знает только Тот, кто создал мир, в котором эти вопросы существуют. Я же знаю ответы на многие из них, но далеко не на все. А что касается богатства, то стать богатым нетрудно. Вопрос не в богатстве, а в цене, которую надо за него заплатить. И чем больше богатство, тем выше эта цена.
– Я видел много богатых людей, но не видел, чтобы кто-то из них тяготился своим состоянием, – усомнился Харис.
– И не увидишь, – уверил его незнакомец. – Ибо цена эта невидима.
– Всё равно не верю я тебе, незнакомец. Вы, дервиши, любите рассказывать небылицы и смущать умы простых людей.
– Я столько живу на свете, что мне нет нужды обманывать тебя, Харис. Ты спрашивал меня о моём пути? Так вот, мой путь уже закончен, ибо цель моего странствия передо мной.
– И какова же цель твоего странствия? Неужели этот убогий квартал Басры?
– Цель моего странствия не убогий квартал Басры. Цель моего странствия это ты сам, Харис!
Не смотря на юный возраст, Харис уже много повидал на своём веку, и его трудно было удивить. Но эти слова вывели его из оцепенения. Он взглянул на незнакомца. То был грязный нечёсаный нищий, издававший вонь давно немытой плоти. Длинные спутанные волосы закрывали его лицо и не давали понять возраст. На нём были невообразимые лохмотья, в которых угадывалась некогда приличная одежда.
Нищий, между тем, продолжал:
– Да, когда-то я был богат. Затем обеднел. Давно брожу по свету. Много прошёл дорог, много повидал людей, городов и стран. Много раз я изнывал от жары и мёрз от холода. А к голоду я привык так, что научился обходиться почти совсем без еды. И могу тебе сказать, Харис, что в богатстве как в таковом нет той радости, которую ты от него ожидаешь. Поверь, сейчас, когда ты сидишь на пороге твоей хижины и жуёшь чёрствую лепёшку, ты счастлив, как мало кто из людей.
– Ты глумишься надо мной, нищий! – воскликнул Харис. – Как можно быть счастливым в такой нищете? Странствия, видимо, повредили твой разум, и ты впал в безумие! Так знай же, я отдал бы самое дорогое, чтобы стать богатым и забыть эту жалкую лачугу!
– Отдал бы самое дорогое? – встрепенулся нищий, из-под его спутанных волос на Хариса глянули глаза, в которых горело пламя, верно, отблеск заката. – Хорошо, Харис, если я научу тебя, как стать богатым до завтрашнего восхода Солнца, что ты мне дашь?
Харис оторопел. Он сразу подумал о монете, которую так долго берёг. А нищий настаивал:
– Всё на свете свершается по воле Всевышнего, и всё на свете имеет свою цену. За всё приходится платить. Если я тебя сделаю богатым уже сегодня ночью, что ты мне дашь?
– У меня ничего нет, – побелев, пролепетал Харис.
– Не обманывай меня! Ложь – грех. Ты помнишь – я знаю ответы на многие вопросы. Я знаю ответ и на этот вопрос! Так что ты мне дашь? Ведь за всё надо платить!
– У меня ничего нет, – повторил Харис, побелев как полотно.
– Не лги! – в глазах нищего горел огонь. – Отдай мне монету, Харис! Отдай! И сбудутся все твои мечты!
– Хорошо! Только научи меня, как стать богатым.
– Встань, возьми крепкую палку и выйди за городские стены на дорогу, что ведёт в Багдад. Там тебя уже ждёт богатство.
– Так просто?
– Да, просто. Я же говорил, что стать богатым просто. А теперь отдай мне монету!
Харис сразу вспомнил наставление отца. Да только тот ли это нищий? И способ получить богатство, который он предлагает, уж очень сомнителен. А за эту монету можно купить неплохого верблюда! И он воскликнул:
– Не дам я тебе монеты! Ты меня обманываешь! Уходи, нечестивец!
Нищий взвыл:
– Ты глуп, Харис! Ты глуп и жаден, как твой предок! Так знай же, что человек, которого греки называют Александром Великим, а мы Искандером, дал твоему предку эту монету за то, что тот согласился удовлетворить его мимолётную греховную страсть! У Искандера не было при себе своих денег, чтобы расплатиться с этим развратником, и он занял у меня, его слуги эту монету. Но потом забыл вернуть долг. А твой гнусный предок куда-то сбежал, и я не смог отобрать у него мою монету. Это я устроил встречу Искандера с тем нечестивцем. За это боги прокляли и меня, и твоего предка, и весь ваш род. Мне назначено бродить по Земле, не зная покоя, как Каину, а вам жить в бесчестье. Только когда один из вас по своей воле отдаст мне ту самую монету, с вашего рода будет снято проклятие, а я, наконец, смогу умереть. Отдай мне мою монету, Харис! Позволь мне покинуть этот мир!
– Уходи, несчастный! Ничего этого не было! Ты всё врёшь, чтобы завладеть моей монетой! – Харис вскочил и оттолкнул ногой нищего.
Тот упал, затем, поднимаясь и вытирая кровь с разбитого лица, уже спокойно сказал:
– Ты меня обманул! Но, помнишь, я говорил о том, что в этом мире за всё надо платить? Всё равно ты заплатишь. Я не могу силой отобрать у тебя мою монету. Вместо этого я дам тебе знание. Самое страшное знание, которым может владеть смертный. Я назову тебе день твоей смерти.
Нищий выпрямился и, глядя горящими глазами в глаза перепуганному Харису, сказал:
– Так знай же, когда пройдёт пять раз по семь лет и один день после этой нашей встречи, ты умрёшь! – затем нищий отвернулся и, сгорбившись, побрёл куда-то в сгущающихся сумерках.
Харис долго стоял, вглядываясь во тьму. Затем взял крепкий деревянный шест, который подпирал падающую крышу его дома и отправился к городским воротам. Знакомые стражники выпустили его из города, и он пошёл по дороге, ведущей в Багдад.
Вскоре он услышал стоны. Он свернул с дороги и в свете Луны увидел лежащую мёртвую лошадь, которая своим телом придавила к земле всадника. Харис, используя свой шест как рычаг, приподнял лошадь и вытащил из-под неё человека. Тому повезло: нога, которую придавил труп лошади, была повреждена, но кости были целы, и идти он мог. Когда он пришёл в себя, то сказал:
– Знай же, о мой спаситель, что я Раид – один из принцев Багдада. Я ехал к правителю Басры со срочным поручением от моего отца. Но мой конь не выдержал дороги и пал, придавив меня к земле. Если бы не ты, к утру меня бы съели шакалы, их уже много собралось вокруг. За спасение я тебя отблагодарю. Вот тебе кошель полный золотых монет. Потрать их с умом, и ты будешь богатым до конца своих дней.
Харис проводил Раида до Басры, где с ним распрощался. В Басре он первым делом зашёл в харчевню и хорошо поел. Давно забытый вкус мяса и сладостей развеселил его сердце. Затем он купил верблюда, нагрузил его коврами и украшениями и, уплатив караванщику, пристроился к каравану, шедшему в Дамаск.
В Дамаске он продал свой товар с большой выгодой и купил ещё двух верблюдов. Он нагрузил их изделиями сирийских и ливанских мастеров и вернулся в Басру. Продав этот товар опять с большой прибылью, он приобрёл ещё двух верблюдов, накупил у мореходов в порту Басры индийских специй и тканей и снова отправился в Дамаск. Там, снова удачно продав товар, он попался на глаза местным евреям. Тем понравился молодой оборотистый купец, и они ссудили его деньгами для развития торговли.
В Басру он вернулся во главе собственного каравана из двадцати верблюдов в сопровождении невольников и невольниц и под охраной вооружённых до зубов воинов. Он ехал верхом на белом скакуне, свысока поглядывая на тех, кому ещё два месяца назад благодарно кланялся за каждую медную монетку, которую ему давали, когда он угодливо подносил стакан воды. Он наслаждался удивлёнными и завистливыми взглядами, которыми награждали его бывшие знакомые. Он упивался своим превосходством над ними, напрочь забыв о временах, когда чашка варёного риса была для него праздником.
И только однажды его ликование было испорчено. В пёстрой базарной толпе продавцов и покупателей мелькнула – или ему показалось? – нечёсаная шевелюра того самого нищего. И вмиг чёрная холодная рука тоски сжала его сердце. Он вспомнил о предсказанном дне его смерти. Сомневаться в верности этого предсказания не приходилось. В том, что касалось богатства, нищий не обманул – значит, не обманул и здесь. Впрочем, печаль длилась недолго. К чему огорчаться заранее? Тридцать пять лет – большой срок, целая жизнь. За это время может случиться столько интересного и приятного, что забивать себе голову сейчас чёрными мыслями нет смысла.
Торговля Хариса процветала. Через год он был уже владельцем сотни верблюдов и двух кораблей. Дамасским евреям он вернул ссуду с большими процентами. Он наладил торговлю между Сирией и Индией и присматривал себе корабль в порту Тир, чтобы возить товары в далёкую Испанию.
На месте своей нищей лачуги он выстроил роскошный дом. В Дамаске купил виллу. Хотел было приобрести дом и в Багдаде, но там были большие налоги, да и жить по соседству с самим халифом ему почему-то не хотелось.
Он мог позволить себе всё! Его дома? были наполнены роскошными вещами. Он ел только изысканные яства и только с золотой или серебряной посуды. Одежда его была под стать самому халифу. Его взор и слух услаждали лучшие музыканты и танцоры, а тело – прекрасные девы, а иногда и отроки.
Но это приносило ему всё меньше радости. Каждое мгновение он помнил о дне своей смерти. Мысль эта отравляла его существование. Еда теряла вкус, изысканные вещи утрачивали изящество. Прелести прекрасных женщин доставляли всё меньше удовольствия, и скоро он совсем перестал ими интересоваться потому, что его уд под влиянием мрачных мыслей перестал подниматься в ответ на их ласки. Только юные отроки могли иногда добиться его благосклонности.
Впрочем, иногда случались просветления. Это было, когда ему на ум приходила мысль: а не обманул ли всё-таки его нищий, не ошибся ли он? В такие дни Харис был странно весел и одаривал окружающих своей благосклонностью. Но в глубине души он всегда знал – предсказание нищего верно, сомневаться в нём не следует.
Шли годы. Всё мрачнее становилось лицо Хариса. Мало кто мог сказать, что видел на нём не то, что радость – хотя бы намёк на улыбку. Он перестал появляться на людях, а когда ему нужно было куда-то ехать, делал это ночью, потому что ему везде мерещилась фигура нищего.
Он становился отшельником. Человеческие лица его раздражали – в каждом из них он видел что-то от нищего. Слуги и невольники в его доме должны были ему служить, опустив голову и под страхом наказания, не глядя ему в лицо. Был он баснословно богат, но свои дела сам уже не вёл. За него это делали управляющие, которые боялись его, как огня, и поэтому надолго не задерживались даже, несмотря на огромные деньги, которые они им платил.
Он так и не женился. Никто не хотел отдавать свою дочь за бывшего водоноса, который подозрительно быстро разбогател, и вскоре после этого стал мрачным злобным затворником. Поговаривали, что богатство своё он приобрёл не без участия Дьявола, который взамен ещё при жизни изъял у него душу.
Временами Харис начинал лихорадочно искать способы снять с себя проклятие. В такие дни в его доме бывали разные люди, называвшие себя знахарями, шаманами, жрецами. Шептали молитвы, курили благовония, или содрогались в трансе, словно в приступе падучей. Брали за это немало. Но рано или поздно к Харису возвращалось его мрачное настроение, и он прогонял их, прекрасно понимая, что все они мошенники.
В один из дней в доме Хариса появился некий человек. Он сказал, что его зовут Зейд ибн ар-Кабир и, возможно, он сможет помочь.
Харису понравились манеры пришельца и, главное, что тот не стал сходу ничего обещать. Он должным образом пригласил его за свой стол и, после того как тот насытился, изложил свои обстоятельства.
Зейд ибн ар-Кабир внимательно выслушал Хариса и после долгого молчания сказал, что не может ничего ответить сейчас. Он должен подумать. А на размышление ему нужны три дня. После чего, не говоря ни слова, удалился.
Через три дня он постучал в дверь Хариса. Приняв приглашение войти и должным образом приветствовав хозяина, он первым делом потребовал удалить из дому всех слуг и прислужников. Затем обратился к Харису с такой речью:
– Три дня и три ночи провёл я без пищи, воды и сна в некоем потаённом месте, изучая секретные книги, содержащие тайные знания. Я призывал духов и демонов, инкубов и суккубов, дивов и джиннов. Я выходил из своего тела и дух мой переносился в храмы богов Индии, Китая и земли далеко за морем, которые ещё не открыты. И я нашёл, как помочь тебе. Так знай же, о Харис из Басры! Над тобой довлеет не просто проклятие, а проклятие про?клятого! Снять его с тебя не сможет ни один смертный! Только демон, которого ты сам призовёшь, способен тебе в этом помочь!
– Как же мне быть? – спросил испуганный этой речью, но всё равно решительно настроенный Харис.
– Я посодействую тебе в этом предприятии за такое-то вознаграждение, – и о назвал то количество денег, какое хотел получить. За такие деньги можно было купить все корабли, что стояли в порту Басры.
Харис согласился, ибо его богатство было намного бо?льшим.
Тогда Зейд ибн ар-Кабир сказал:
– Я приготовлю всё, что нужно для обряда, научу тебя, как его провести. Но сам я удалюсь. Ибо не пристало мне, волшебнику, встречаться лицом к лицу с демоном из ада.
Получив согласие, он развернул принесённые с собой свёртки и начал варить какое-то зелье из того, что там было. Харис хотел было спросить, что там, в этих свёртках, но ощутив ужасающий смрад, доносившийся оттуда, и увидев грозный взгляд волшебника, смирил своё любопытство.
Приготовления длились долго, а нетерпение Хариса росло. Постепенно он впал в то исступлённое состояние, в котором призывал в дом разных мошенников, умоляя избавить его от проклятия.
Наконец, Зейд ибн ар-Кабир торжественно сообщил Харису, что приготовления закончены, зелье сварено. Но не хватает главной его субстанции – печени невинного отрока, без которой призванный диббук может оказаться слабым и неспособным снять проклятие. Добыть её Харис должен собственноручно.
Харис, не говоря ни слова, вышел на улицу, подманил мелкой монеткой первого попавшегося ему на глаза мальчика и затащил его в дом. Он бросил его под ноги волшебнику, выхватил нож, вспорол несчастному ребёнку живот и, запустив туда руку, вырвал искомый орган.
Даже повидавшего на своём веку Зейд ибн ар-Кабира взяла оторопь от этого действа. Однако он принял из рук Хариса ужасный кровоточащий предмет и поместил его в котёл с зельем.
Затем он научил Хариса словам и действиям, которые тот должен совершить, и весьма поспешно покинул его дом.
Едва за волшебником закрылась дверь, Харис в точности выполнил всё, что тот ему велел. Как только он произнёс последние слова заклинания, земля задрожала, дневной свет за окнами померк, комната наполнилась смрадным дымом, и в ней появился демон.
Демон имел обличье старика. Он был наг. Его жёлтая волосатая кожа была сплошь покрыта бороздами и складками, в которых копошились насекомые. Его мужской орган, подобно старой узловатой верёвке, свисал ниже колен. Он был плешив и только несколько жалких кустиков волос торчали на его голове. На его гноящемся правом глазу было безобразное бельмо. Из его пасти – ибо ртом это назвать было нельзя – торчали три длинных кривых зуба. А ногти на руках и ногах были словно кора гнилого дерева.
– Здравствуй, Харис! – сказал он, наполнив комнату вонью блевотины шакала, жрущего падаль. – Я, диббук, явился! Расскажи мне о твоём деле!
Испуганный Харис, еле слышно лепеча, поведал демону, чего от него хочет. Пока он говорил, демон смотрел на труп мальчика, лежащий подле, и окровавленные руки Хариса. Выслушав его, он сказал:
– Я понял тебя, нечестивец! Пока ты меня не призвал, я находился в огненной темнице глубоко под землёй, где провёл четыре тысячи лет и один день. Ты выполнил положенное и вызволил меня оттуда. Понятно, ты ждёшь благодарности. Снять проклятие проклятого не просто даже для демона. Для этого нужны силы. А я за четыре тысячи лет ослаб. Мне надо поесть. О нет, твоя еда, еда смертных мне не подходит. Чтобы возобновить силы, я должен сожрать немало людских душ. Каждую душу я буду есть в течение одного года. Так что прощай Харис Нечестивец. Я вернусь, чтобы выполнить то, зачем ты меня призвал, когда почувствую в себе достаточно сил.
И он, громко захохотав, исчез в клубах серного дыма, оставив озадаченного Хариса в неведении относительно своей дальнейшей судьбы.
– – –
Прошло тридцать пять лет.
За три месяца до срока Харис почувствовал, что у него болит язык. Лекарь, которого он позвал, заметил на его языке небольшую ранку. Он сказал, что это не страшно, и прописал какое-то питьё. Но, несмотря на лечение, боль не проходила, и ранка не заживала. Харис звал одного лекаря за другим. Все они качали головами, говорили, что это не страшно, прописывали какие-то снадобья и спешили удалиться. Всё было впустую. Болевший язык мучил Хариса и днём и ночью.
И, наконец, Харис пригласил знаменитого лекаря, который лечил самого халифа, заплатив за его визит огромные деньги. Тот долго его осматривал, задавал вопросы, интересовался его выделениями, его сном, историей его семьи и ещё много чем. Затем, покачав, головой сказал, что эта болезнь ему известна и она неизлечима. Она начинается с какой-нибудь незаживающей ранки или опухоли, которая потом распространяется по всему телу, и человек умирает в мучениях.
Харис совершенно пал духом. Вот оно! Исчезла последняя тень надежды, – предсказание нищего начинает сбываться!
Харис заперся в своём доме. Он вёл счёт часам и минутам до конца отведённого ему срока. Он не ел, не спал, ни с кем не разговаривал и чах день ото дня. В конце концов, он перестал быть похожим на самого себя и превратился в обтянутый сморщенной кожей скелет.
В тридцать пятую годовщину его встречи с нищим, за день до его предсказанной смерти слуги доложили, что у ворот дома стоит какой-то оборванный человек и настойчиво просит его впустить. Погружённый в апатию Харис, безвольно лежащий на подушках, вялым жестом выказал своё согласие. И вот перед ним предстал тот самый нищий. За тридцать пять лет он нисколько не изменился: те же нечёсаные волосы, закрывающие лицо, те же лохмотья, тот же дурной запах немытого тела. Глядя на Хариса сквозь спутанные космы, он сказал:
– Ну что, Харис, твоя мечта сбылась – ты богат! Но счастлив ли ты? Помнишь, я тебе говорил, что тогда, когда ты сидел на пороге твоей убогой лачуги и жевал чёрствую лепёшку, то был счастлив, как мало кто из людей?
Харис только молча кивал головой, из его глаз катились слёзы. Нищий продолжал:
– Помнишь, я также говорил, что всё имеет свою цену? И рано или поздно её придётся заплатить? Ты решил, что можно обмануть судьбу и получить то, о чём мечтаешь бесплатно, но взамен ты потерял душу.
В ответ на слова нищего к Харису вернулось его обычное злобное настроение. Старческие слёзы вмиг высохли на его лице. Он сел на подушках и, глядя в лицо нищему, промолвил сквозь зубы:
– Тебе ли меня укорять, пёс шелудивый? Когда я сидел на пороге своего дома и жевал сухую лепёшку, разве звал я тебя? Ты сам пришёл и уселся рядом без спроса! Ты сам затеял тот разговор! Это ты, отродье шайтана, меня соблазнил, чтобы украсть мою душу! Если бы не ты, не знал бы я тех страданий, которые испытываю сейчас!
– А кто заставлял тебя выламывать шест из крыши твоей лачуги и идти с ним ночью на багдадскую дорогу? Я? А кто тебе советовал, как распорядиться подарком принца Багдада? Тоже я? Помнишь, что ты сделал сразу же, придя в город? Может ты раздал милостыню нуждающимся или оставил пожертвование в мечети? Нет! Ты пошёл на постоялый двор и нажрался, как грязная свинья!
Харис вскочил и стал кричать на нищего, потрясая кулаками:
– Не тебе меня укорять! Разве я не заплатил за своё богатство, за свои деньги! И цену ты сам назначил. Ты мне сообщил день моей смерти. Каждый день, каждое мгновение я помнил об этом дне. Это знание, которое ты мне дал, отравило моё существование, лишило меня радости обладания богатством, радости жизни. Это стоит дороже одной единственной монеты, из-за которой ты всю жизнь меня преследуешь!
Нищий упал на колени, схватил себя за волосы и, горестно раскачиваясь, воскликнул:
– Харис! Сколько лет прошло, а ты так ничего и не понял!!! Твои деньги и любые деньги вообще – это только кусочки металла. Ты заплатил цену не за них! Вспомни, Харис, о ком ты думал всю свою жизнь? Только о себе! Подумал ли ты хоть раз о простом водоносе, каким ты был когда-то, который питается лишь лепёшками, да рисом? Или о вдове, мужа которой убили разбойники, отобрав последнее? Может ты ссудил денег на постройку мечети, больницы или медресе? Нет, Харис, единственным, кого ты ценил и о ком заботился, был ты сам. Ты говоришь, что знание дня своей смерти отравило твоё существование? Нет, не оно.
Каждый человек знает, что он смертен, и знает, сколько примерно ему отведено. И каждый сам решает, как прожить свой срок, какую цену заплатить за то, чем наделил его Всевышний. Если человек оставляет после себя в этом мире что-то полезное, то своего конца он не боится – когда умрёт его тело, сам он останется жить в своём творении. Если же он за свою жизнь не сотворил никакой пользы, то, умерев, он уходит из этого мира навсегда!
Цена богатства – это то, на что его можно употребить. У тебя была гора золота и уйма времени – тридцать пять лет – целая жизнь! За это время можно было не то, что дворец, город выстроить. Можно было пустыню превратить в цветущий сад. Можно было родить сыновей и воспитать из них воинов защитников родины. А ты на что потратил жизнь? Ты всё это время сидел один взаперти и трясся над своей жалкой, ничтожной шкурой!
За свою жизнь ты не сделал ничего полезного, хотя твоё богатство это позволяло. Твоё существование отравил страх. Мелкий, грязный, ничтожный страх уйти из этого мира безвозвратно, навсегда!
Они стояли друг перед другом, лицом к лицу, два недруга, всю жизнь скованные одой цепью. Все тридцать пять лет ожидания, страха, надежды и ненависти, наконец, выплеснулись. Нищий сказал:
– Харис! Жить тебе осталось один день. Завтра ты умрёшь. Сейчас у тебя есть последняя возможность совершить благой поступок и сделать хоть что-то полезное. Сними с себя и с меня проклятие – отдай мне мою монету!
– Так знай же, о презренный бродяга, – прошипел Харис сквозь зубы, глумливо глядя в глаза нищему. – Чтобы отомстить тебе за то, что ты со мной сделал, я смешал эту монету со всем множеством моих монет и пустил её в оборот. Я её потратил! Не знаю где и не знаю на что! Ищи теперь свою монету в целом свете!!!
Нищий несколько мгновений молча смотрел на Хариса, боясь поверить услышанному. Когда он, наконец, осознал происшедшее, то взвыл от горя и бросился из дому, разрывая на себе одежду и вопя:
– Будь ты проклят, Харис!!! Гореть тебе в Геенне Огненной в день Страшного Суда!!!
Когда крики нищего стихли в отдалении, Амин, невольник, которого Харис купил первым ещё тогда, тридцать пять лет назад в Дамаске, и который всегда был при нём, склонив голову как обычно, почтительно обратился к нему:
– О Хозяин, позволь мне, рабу твоему сказать тебе что-то, – и, когда согласие было получено, продолжил. – Когда я был маленьким мальчиком, то проводил много времени в лавке моего дяди. Он был цирюльником. Он не только стриг и брил, но иногда помогал страждущим – излечивал некоторые болезни. Когда ты только что громко кричал, я заглянул тебе в рот и увидел то, что причиняет тебе страдания. Однажды, я это хорошо помню, мой дядя излечил стражника, у которого была точно такая же болезнь. Если ты не против, я попробую тебе помочь.
Харис, выслушав невольника, лёг на подушки и открыл рот. Тот взял маленький золотой ножик, которым разрезал фрукты для своего хозяина и что-то отколупнул с внутренней стороны одного из его зубов. Затем он протянул ладонь, на которой лежал маленький чёрный камушек, и сказал:
– Смотри, хозяин, это – зубной камень. Много лет он сидел у тебя во рту, царапал язык и не давал ранке зажить. Именно он виновник твоей болезни. Я его удалил, и теперь ты здоров!
Харис подвигал языком во рту и почувствовал, что боль ушла. Нет слов, чтобы описать его радость: нищий ошибся, его предсказание не сбудется! Так, наверное, чувствует себя приговорённый, которого помиловали, когда над его шеей уже был занесён топор палача.
Харис щедро одарил Амина. Он дал ему свободу, много кошелей с деньгами, дорогую одежду, подарил семь верблюдов и отпустил домой, на родину. Затем он приказал устроить пир, на котором пил и ел вдосталь. Он приказал привести к нему самых красивых дев Басры и развлекался с ними всю ночь, ибо его уд, бездействовавший много лет, не знал усталости.
Наутро Харис проснулся самым счастливым человеком на свете. Он приказал принести ему напитков, сладостей и фруктов, дабы удовлетворить утренний голод. Новый невольник, который прислуживал вместо Амина, не знал, что его хозяин любит есть лёжа, и фрукты для него надо разрезать и извлекать из них косточки. Он подал фрукты, как они были – неразрезанными с косточками, и удалился. Упиваясь блаженством, Харис этого не заметил. Абрикосовая косточка проскользнула ему в горло, и он стал задыхаться. Но рядом не было никого, чтобы ему помочь: верный Амин, получив свободу, поспешил его покинуть, новый невольник боялся находиться с ним в одном покое, а жены, детей или друзей у него никогда не было. Так он и умер в одиночестве, подавившись абрикосовой косточкой.
Предсказание нищего сбылось, а сам он исчез. Говорят, что он до сих пор бродит по земле, разыскивая свою монету.
Это всё о Харисе – человеке, который знал день своей смерти.
Днепропетровск, 2008
Скачать на телефон Купить книгуПовесть об абсолютном зле
Познанию безразличны побуждения тех, кто бродит по его дорогам. Ему всё равно, отыщет ли соискатель новых знаний целительное снадобье или создаст изощрённое орудие пытки
Часть первая
Это было давно, в те времена, когда устройство мира зависело от искусства рассказчика.
В окрестности небольшого города на севере Аравии остановилось кочевое племя. В сезон дождей пустыня в изобилии покрывается растительностью, и горожане, взимая умеренную плату, позволяли кочевникам пасти скот под прикрытием городских стен.
Пришельцы, разбив лагерь, не спешили вступать с горожанами в обычные торговые сношения. Да и в общении проявляли странную сдержанность. Лица свои скрывали как женщины, так и мужчины. Разговаривая, прятали глаза, а сам разговор торопились побыстрее закончить.
Вскоре в городе заметили, что вода в сосудах стала быстро загнивать, трава замедлила свой рост, листья кустарников сморщились и покрылись белёсым налётом. Вдобавок начался падёж скота. И всё это происходило в той части города, что соседствовала с лагерем пришельцев.
В один из дней к лагерю прибыла делегация, возглавляемая городским судьёй. Вышедшему на переговоры вождю было заявлено, что горожане обвиняют его племя в наведении порчи и требуют покинуть это место.
Вождь ответил, что на них возводят напраслину. Вода гниёт, а растения болеют из-за ветра, который пролетал над гниющими болотами в пустыне. Его же люди повинны лишь в том, что их обычаи отличны от обычаев горожан. Это единственная причина, по которой последние их возненавидели. А что до ухода, то они бы и рады покинуть негостеприимный город, но сейчас сделать этого не могут, так как находятся в затруднительном положении. Жена вождя никак не может разрешиться от бремени, страдая при этом неимоверно. Двинуться сейчас в путь, означает погубить и её, и неродившегося ребёнка. По этой причине вождь просит позволения задержаться в этом месте ещё на короткий срок.
Выслушав эти слова, судья после короткого разговора с членами совета заявил, что благополучие города ему важнее, чем какая-то чужеземка, а пришельцы пусть убираются до захода солнца, ибо, в противном случае, будут изгнаны силой оружия. После чего делегация удалилась.
Несмотря на угрозу, лагерь пришельцев остался стоять и после захода солнца, и после его восхода. Пополудни следующего дня, выйдя из городских ворот, к нему направился вооружённый отряд. Попытка вождя вступить в новые переговоры была оставлена без внимания. Горожане принялись избивать пришельцев и крушить их шатры.
При том отряде был человек по имени Абу-Алим ар-Кабир. Когда он вошёл в шатёр вождя, которому к тому времени уже размозжили голову, то на бывшем там ложе увидел молодую женщину. Дела её были плохи. Члены были сведены судорогой, глаза закатились, из горла вырывались предсмертные хрипы. Её огромный живот едва заметно шевелился.
Недолго думая, Абу-Алим ар-Кабир выхватил кинжал, одним взмахом рассёк тот живот и достал вполне здорового мальчика. Он перерезал пуповину, перевязав её подвернувшейся под руку бечёвкой, не дожидаясь, когда новорождённый издаст первый крик, завернул его в какие-то тряпки, сунул себе за пазуху и, оставив несчастную со вспоротым животом умирать, поспешил покинуть то место.
– – –
Об Абу-Алим ар-Кабире в городе говорили всякое. Он был известен, как человек, способный вылечить любую болезнь. Природа же этой его способности многим была непонятна. Злые языки шептали, что он состоит в сношениях с древними духами, и ему ничего не стоит как вернуть человека с того света, так и отправить его туда. Вот почему, когда Абу-Алим ар-Кабир взял себе маленького пришельца, ему никто не сказал и слова.
Зейд – такое имя дал лекарь приёмышу – рос изгоем. Выходить из дому он боялся – соседские дети дразнили его и бросали камни. И некоторые взрослые при виде его не стеснялись процедить обидное слово или даже плюнуть, думая, что отгоняют проклятие. Многие искренне верили: бедствия, которые временами случались в городе – а где их не бывает? – вызваны тем, что среди них живёт потомок про?клятого племени.
Приёмный отец, будучи всё время чем-то занят, с Зейдом почти не разговаривал. Все знания о мире мальчик черпал из книг, которые лет с пяти были его единственными друзьями.
Зейд часто наблюдал за работой лекаря и старался ему подражать. Он рано начал делать успехи. Мальчику не исполнилось и десяти лет, а он уже знал наизусть рецепты сотен снадобий и сам мог прийти на помощь заболевшей овце или даже лошади.
Зейд хорошо знал все комнаты большого дома, в котором никто кроме них с лекарем не жил. Но одна из них представляла для него загадку. То была обычная кладовка. Однако, когда лекарь входил туда и закрывал за собой дверь, Зейду никак не удавалось её открыть, хотя замка в ней не было. Лекарь в той комнате бывал редко и всегда один. Войдя, оставался долго, иногда несколько дней. Что там происходило, Зейд не догадывался, ибо пока лекарь был внутри, оттуда не доносилось ни звука.
– – –
Речка, на берегу которой давным-давно был построен город, со временем изменила своё русло. Теперь, чтобы принести домой воды, надо было совершить изрядный путь по каменистой местности. Горожане из года в год всё больше сетовали на это неудобство.
Однажды в доме судьи собрался городской совет, чтобы, наконец, решить, как быть с этой бедой. Члены совета разделились на две партии. Одни считали, что надо прибегнуть к помощи могучего волшебника – Абу-Алим ар-Кабира, потому что, возможно, он и был таковым, или кого-то другого – дабы тот уговорил злых духов вернуть воду обратно. Другие же, сомневаясь в милости духов, предлагали просто замостить дорогу до воды, чтобы доставку её сделать более удобной.
Когда споры разгорелись настолько, что члены совета уже стали таскать друг друга за бороды, слово взял судья.
Он сказал: зачем о чём-то просить духов и почему надо мостить дорогу, по которой не будут ходить караваны? Не проще ли самим, собравшись с силами, подвести воду к городу, прокопав канал?
Красноречие судьи было таково, что обе партии, забыв о прежних намерениях, горячо его поддержали. Немедля всем составом совета они вышли за городские стены и под предводительством судьи при помощи колышков и камешков наметили контуры будущего строительства.
В пылу работы никто не заметил, что новое русло речки должно было пролечь как раз так, чтобы любой горожанин, идущий к ней за водой, не мог не пройти мимо лавки, принадлежавшей судье. Впрочем, может, кто и заметил. Но промолчал.
На следующий день, толпа горожан с мотыгами и кирками в руках, возглавляемая судьёй и членами городского совета отправилась к реке. Место для начала строительства выбрали намного выше по течению, откуда воде легче было спускаться к городу.
Испросив в молитве благословения свыше, после торжественной речи судьи горожане со рвением приступили к работе. Работали они самоотверженно с рассвета до темноты под палящим солнцем.
В начале строительства незамеченным произошло одно событие. Кирка некоего работника после сильного удара вдруг провалилась в пустоту. Этот человек не преминул подойти к судье, почивавшему в тени навеса, и сообщить ему о происшествии. Тот, не отрывая головы от подушки, распорядился образовавшуюся дыру завалить большим камнем, и продолжить работу.
Через десять дней усилиями всего города канал был прорыт. Наутро одиннадцатого дня толпа горожан под звуки музыки и в праздничных одеждах, опять же возглавляемая судьёй и членами совета, направилась, чтобы разрушить дамбу, отделявшую русло реки от канала и наполнить последний водой.
После вознесения благодарственной молитвы судья, торжественно совершив первый удар киркой, отошёл в сторону. Его начинание подхватило множество людей, и уже вскоре воды реки ринулись в своё новое русло. Ликующие горожане, смеясь и танцуя под звуки труб и барабанов, бросились вслед за потоком.
Вдруг земля задрожала. Раздался ужасный грохот. На глазах у онемевших строителей дно канала провалилось, и река хлынула сквозь зияющее отверстие вниз, в бывшую там огромную подземную пустоту, сведя насмарку все приложенные усилия.
В следующее мгновения крики восторга сменились воплями отчаяния. Разрывая на себе одежды, горожане принялись громко стенать, проклиная как злых духов, оставивших их совсем без воды, так и того, кто предложил рыть этот злосчастный канал.
Судья, предчувствуя удары мотыг на своей спине, обратился к убитым горем людям с речью. Он сказал, что они, достойные из достойных, – жители города – собственными руками решили построить своё счастье. Но злые духи им помешали. А всё почему? Потому что на городе лежит проклятие – он приютил у себя мальчишку Зейда, сына про?клятого племени. Есть только один способ умилостивить духов – принести им в жертву этого жалкого ублюдка.
Ничто так не объединяет людей, как общий враг. Даже мнимый. Не успел судья закончить свою речь, как толпа в едином порыве устремилась к дому лекаря.
На беду как раз в это время Абу-Алим ар-Кабир уединился в секретной комнате. Зейд, услышав доносившиеся с улицы рёв толпы, громкие угрозы в свой адрес и удары в ворота, стал его звать, колотя в дверь кладовой руками и ногами. Но, увы! Дверь так и не открылась. Испуганный мальчик стал метаться по дому в поисках убежища. Не найдя его, он вернулся к той самой двери и стал ожидать неизбежного, слабо надеясь, что его названный отец появится из-за неё и спасёт его.
А между тем, нападавшие, подгоняемые жаждой крови, повалили ворота и стали ломиться в дом. Их авангард, вторгшись в передние комнаты, принялся крушить всё, что попадалось на глаза, рвать и выбрасывать в окна книги, которым не было цены. Многие прятали в своей одежде мелкие вещи в расчёте впоследствии с выгодой их продать.
И вот в зал, где несчастный Зейд, дрожа от ужаса, прижался к запертой двери, вломились нападавшие. Первым был тот, кто, обнаружив пропасть под дном канала, выполнил распоряжение судьи замаскировать её. Увидев искомую жертву, он подбежал к ней и с ужасной гримасой замахнулся киркой.
В это мгновение дверь отворилась, на пороге показался Абу-Алим ар-Кабир, который и принял на себя сокрушительный удар. С окровавленной головой лекарь повалился назад, в комнату, увлекая за собой Зейда, успевшего вцепиться в его одежду. Дверь за ними захлопнулась.
– – –
Звуки погрома стихли. Наступила тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием лекаря. Когда глаза Зейда привыкли к полумраку, и он смог рассмотреть рану Абу-Алим ар-Кабир, то понял, что тот переживает последние минуты. Оторвав от своей одежды лоскут, он перевязал лекарю пробитую голову.
Здесь был слабый свет. Он исходил от чего-то, лежащего на высоком каменном алтаре. Зейд поднялся с пола и шагнул к нему. Там была раскрытая книга. Строки на её страницах излучали призрачное сияние. Зейд попробовал что-то прочесть, но, хоть написанное и было на родном языке, смысл его странным образом ускользал от сознания.
Зейд осмотрелся. Стен комнаты он не видел. Пространство на расстоянии вытянутой руки терялось в голубоватой дымке. Он шагнул прочь от алтаря и, вытянув руки, попытался нащупать стену. Стены не было. Зейд сделал ещё пару шагов, потом ещё и ещё. Очутившись в полной темноте, он оглянулся. Алтарь с книгой был от него на расстоянии, превосходившем размеры их дома. Он поспешил вернуться. Стал искать дверь, через которую сюда попал. Но и эти поиски оказались безуспешными.
– Не ищи дверь, сынок, – раздался слабый голос лекаря. – Она появится, когда того захочет Книга.
Зейд вернулся к лекарю. Хоть тот и пришёл в себя, но было видно, что его кончина близка. Стараясь сберечь уходящие силы, он стал говорить:
– В часах, что отмеривают мою жизнь, осталось лишь несколько песчинок. Пока не упала последняя, я поведаю тебе мою историю.
– Родом я из Багдада. Мой отец был придворным самого халифа. С малых лет я жил в сытости и достатке, не зная ни в чём отказа. Слова «горе» и «беда» были мне неведомы. Когда я вступил в брачный возраст, отец подыскал мне невесту.
Хоть свою молодую жену впервые я увидел только на свадьбе, между нами сразу установились приязненные отношения, которые быстро переросли в настоящую любовь. Плод этой любви не замедлил появиться на свет. В положенный срок у меня родился сын.
Радости нашей не было границ! С упоением я наблюдал, как растёт наш ребёнок, боясь расстаться с ним и его матерью хотя бы на короткое время. То были самые счастливые месяцы моей жизни.
Когда ребёнку исполнился год, меня посетила роковая мысль. Я решил отправиться в Мекку, чтобы, совершив хадж, отблагодарить Всевышнего за ниспосланное мне счастье. Моя жена, бывшая очень набожной, упросила меня взять её с собой. На беду я позволил себя уговорить.
Я снарядил караван, погрузив на верблюдов и мулов всё необходимое для того, чтобы я, моя жена, и наш сын – а как бы мы его оставили одного? – могли совершить путешествие, ни в чём не нуждаясь. Когда приготовления были закончены, мы попрощались с близкими и отправились в путь.
До Мекки мы добирались, двигаясь не спеша, только в прохладное время дня, делая долгие привалы в оазисах.
Прибыв на место, мы выполнили всё предписанное и радостные, с лёгким сердцем, с чувством очищения души отправились в обратный путь.
Спеша вернуться в родные стены, я совершил фатальную оплошность – позволил нашему каравану отдалиться от других караванов.
Когда мы остались на дороге одни, на нас напала банда грабителей.
Первое, что я увидел, очнувшись после жестокого избиения, были бездыханные тела жены и сына.
За что убили мою Латифу? Что она сделала? Она была такой же нежной и доброй, как само её имя!*
За что убили моего Алима? Он ведь только-только учился ходить!
С моих глаз будто спала пелена. Я понял, что до этого жил в призрачном счастливом сне, в розовом тумане. Я увидел мир по-другому, не так, как сквозь газовые занавеси на окнах дворца.
Пока я, похоронив в пустыне самых родных мне людей, добирался домой, меня одолевали раздумья. Почему в мире существует зло? Отчего рядом со счастьем всегда есть горе? Я шёл пешком, путь был долгим, и я успел передумать многое. Я решил, что моё предназначение, причина, по которой Всевышний призвал меня на свет, – найти способ искоренить зло. Ещё я решил, что раз зло творят люди, то гнездится оно где-то внутри человеческого тела. Возможно, зло – это просто болезнь. А значит, людей можно излечивать от него. Должен существовать способ, какое-то лекарство.
Вернувшись в Багдад, я не пошёл к себе домой. Мне претило жить во дворце. Я отправился к знаменитому багдадскому лекарю, который в своё время лечил и меня. Он меня не узнал. Да и как было узнать в обросшем космами измождённом страннике того блистательного аристократа, каким я был не так давно! Я назвался лекарю вымышленным именем, которое ношу и сейчас, и попросился обучить меня его ремеслу. Поколебавшись, он согласился при условии, что за обучение я заплачу такую-то сумму и после покину Багдад, чтобы не отнимать у него хлеб. Я согласился. Те грабители украли не все мои деньги, часть их они не нашли. Этого как раз и хватило.
Образование моё длилось без малого три года. Когда лекарь сообщил, что ему более нечему меня учить, я сдержал обещание и ушёл из Багдада.
Я стал бродячим лекарем. Переходил из селения в селение, из города в город и оказывал помощь всем нуждавшимся в ней. Годы учёбы не прошли впустую. Число излеченных мной росло, а с ними росла и моя слава. Через непродолжительное время я собрал достаточное количество денег, чтобы купить дом. И уже не я разыскивал больных, а ко мне люди шли за помощью. Некоторые даже выдумывали себе болезни, чтобы потом хвастаться, что лечились у знаменитого лекаря.
Стоит ли говорить, что лекарское ремесло было лишь способом решить задачу, которую я сам перед собой поставил! Пытаясь найти место в теле, где живёт зло, я изучал то, как устроены люди. И не только живые. Нарушая писаные и неписаные законы, с помощью своего ланцета я исследовал мертвецов – и бывших при жизни праведниками, и казнённых преступников.
Прошли годы. Борода моя наполовину поседела. Однажды я понял, что к цели своей не приблизился ни на шаг. Оказалось, все люди устроены одинаково! Святые и грешники, праведники и блудолюбы, богачи и бедняки. Где бы зло ни жило, это место не является человеческим телом.
И ещё я понял, что знания мои весьма поверхностны. Я досконально изучил Человека. Но я ничего не знал о Людях.
К разочарованию моих больных, я продал дом и отправился на родину Пророка.
Там, в Медине, я, подобно школяру, сел за книги. Я принялся изучать историю, философию, религии. И не только нашу. Но евреев, греков, людей, что живут на севере от нас, за морем.
Оказалось, зло всегда есть там, где добро, а добро – там, где зло. Они не просто идут рука об руку. Они порождают друг друга в бесконечной цепи событий.
Взять, к примеру, обращение язычников в Истинную Веру. Это добро? Безусловно! Часто это сопровождается кровопролитием – злом. В военную пору многие проявляют чудеса героизма и благородство духа. Это – добро. Но при этом они убивают других людей, пусть врагов, но всё равно людей. Опять – зло. И так можно продолжать до бесконечности.
Почувствовав, что грань между добром и злом в моём разуме стирается, я решил, что взвалил на себя непосильную ношу и вряд ли смогу разрешить мою задачу. Когда я уже выбирал способ, которым мог бы закончить своё бессмысленное существование, один человек рассказал мне о Книге Познания.
Книга эта существовала ещё до момента, когда Великий Строитель решил создать этот мир. Разыскать её нельзя. Она сама находит человека, который готов отринуть от себя повседневность и самоотверженно ступить на стезю Познания. Тот человек сказал, что держал её в руках, но открыть не решился. Где она теперь может находиться, он не знает, но предполагает, что там-то и там-то.
Недолго думая, я пошёл в том направлении, куда тот человек просто показал рукой.
После непродолжительных странствий я пришёл сюда, в этот город. В харчевне у городских ворот, я узнал, что некий богатый купец находится при последнем издыхании, так как местный лекарь не может справиться с его болезнью.
Я пришёл в дом купца и, назвавшись, попросил разрешения осмотреть больного. Мне было позволено. Болезнь оказалась мне известной и вполне излечимой. А умирал человек лишь потому, что лечивший его то ли был несведущ, то ли просто стремился выманить у него побольше денег.
Моё лечение подействовало. Придя в себя, купец оказал мне всяческие почести и пригласил поселиться в его доме. Прежнего лекаря слуги купца побили и прогнали из города.
Осматривая дом, в одной из комнат я увидел каменный алтарь, на котором лежала Книга. Спросив у купца о ней, я получил странный ответ. Купец был уверен, что в той комнате храниться домашняя утварь. Когда мы с ним вдвоём вошли туда, то я действительно увидел кладовую. Когда же, погодя, я вошёл туда один, там опять была Книга.
Я попросил купца продать мне этот дом, на что он без колебаний согласился. Так я поселился здесь.
Книга приняла меня сразу, только я её открыл. Она переносила меня в разные земли и эпохи. Я беседовал с мудрецами, воочию видел великие события, описанные в древних рукописях, был знаком с легендарными правителями.
С каждым своим путешествием я всё более убеждался в своей наивности. Зло искоренить невозможно. Чтобы убить зло, надо вместе с ним уничтожить и добро.
Они не просто крепко между собой связаны. Они – одно целое. Если бы тогда, много лет назад, я увидел изображение греческого божества Януса с двумя лицами, одно из которых злое, другое доброе, возможно, мои искания закончились намного раньше.
Я умираю с лёгкой душой. Хоть моя затея и не удалась, уверен, что Путь Познания я прошёл до конца.
Когда Абу-Алим ар-Кабир издал последний вздох, раздался тихий шелест – Книга закрылась сама собой.
Зейд закрыл глаза умершему. Затем поднялся с пола, шагнул к алтарю и, решительно протянув руку, раскрыл Книгу.
– – –
Человек с киркой толкнул дверь. Раненного им лекаря и прОклятого мальчишки за ней не было. Вместо них он увидел сундуки, да полки, заставленные домашней утварью. Охваченный яростью оттого, что упустил жертву уже бывшую в его руках, он принялся крушить всё, что попадалось на глаза.
Погромщики, между тем продолжали начатое. Не было ни одного закутка в доме, который избежал бы их разрушительных действий. Кто-то разбил мотыгой очаг, и тлеющие угли брызнули на занавеси, которые тут же вспыхнули. Когда из окон дома показались языки пламени, горожане в панике повалили наружу.
Какое-то время они стояли во дворе, глядя дикими глазами на сотворённое. Потом, поддавшись странному порыву, все вместе бросились к месту приведшей их сюда катастрофы.
При виде водопада, низвергавшегося в чёрную пропасть, охватившее их уныние во сто крат усилилось. Мало того что вода отдалилась от города более чем вдвое. Подходы к ней были усыпаны острыми камнями, между которыми ползали ядовитые змеи.
От жары и волнений некоторые стали впадать в беспамятство. Но способа облегчить их страдания не было – подойти к воде по тем чудовищным камням никто не решался. Да и лекаря, который мог помочь, тоже не было – их же стараниям он был мёртв.
Кто-то вспомнил, кому они обязаны этой бедой. Гнев толпы воспламенился с новой силой, и она двинулась назад в город, но теперь уже к дому судьи.
По прибытии на место оказалось, что пока горожане громили дом лекаря, судья собрал свои драгоценности и сбежал. То ли во имя возмездия, то ли от безысходности, его дом тоже сожгли.
Наутро жители стали покидать город, расходясь кто куда, подальше от этого проклятого места. Вскоре он и вовсе опустел, превратившись в пристанище для пауков и ящериц.
Восстановить дамбу и таким образом вернуть реку в прежнее русло никто не догадался.
– – –
Ящерица, гревшаяся в лучах заходящего солнца, вздрогнула и открыла подслеповатые глазки. Через мгновение она бросилась бежать, оставляя на песке двойную цепочку следов.
Послышался низкий гул. На месте, где лежала ящерица, песок будто закипел – песчинки задрожали, задвигались. То одна, то другая взвивалась в воздух и падала назад. Их становилось всё больше. Вот уже там образовался песчаный фонтанчик, который быстро рос, разбрасывая песок во все стороны. Вдруг раздался мощный хлопок, и масса песка, взвившись в воздух, тёмной тучей зависла над тем местом.
В человеке, одетом в чёрное, который вышел из образовавшегося провала, невозможно было узнать мальчика, двадцать лет назад чудом спасшегося от смерти, оказавшись в волшебной комнате.
Зейд окинул взглядом занесённые песком развалины города, который когда-то его возненавидел, и презрительная ухмылка чуть тронула уголки его рта.
Он повернулся и сделал лёгкий жест рукой. В тот же момент висящая в воздухе масса песка, обрушившись вниз, сровняла с землёй провал, похоронив под собой видневшуюся там волшебную дверь.
Глядя, не щурясь, на солнце у горизонта, Зейд подождал, пока осядет песчаная пыль. Затем, словно очнувшись от забытья, вздохнул, огляделся по сторонам и что-то крикнул на непонятном языке. Неведомо откуда перед ним возник статный вороной скакун в збруе, богато отделанной серебром. Зейд шагнул к коню, погладил его по мощной шее, что-то шепнул на ухо. Затем одним уверенным движением запрыгнул в седло и, пришпорив скакуна, направился в сторону заходящего солнца.
– – –
Мугиру ибн Шу’бу, правителя Куфы, уже третий день мучила боль в животе. Казалось, внутри поселился неведомый зверь и острыми зубами грызёт внутренности. Лекари, как ни старались, облегчить страдания не могли. Мугира изгнал их всех из дворца. За лекарями последовали придворные – правителю невыносимо было видеть их лицемерное сочувствие.
В полном одиночестве Мугира возлежал в опочивальне, с ужасом ожидая очередного приступа боли. Вдруг он почувствовал, что в комнате кто-то есть. Он повернул голову и увидел стоящего у ложа человека в чёрном.
– Как ты?.. – начал было он, но сильная боль, вдруг возникшая внутри, помешала ему продолжить. Несколько мгновений ему казалось, что настал смертный час. Однако также внезапно, как и появилась, боль исчезла.
– Как я здесь оказался? Не трудись это понять, – сказал незнакомец, голосом, который не выражал никаких чувств.
Мугира сел на ложе и стал разглядывать незваного гостя. По одежде того можно было принять за бедуина. Лица же его, хотя оно и было открыто, Мугира разглядеть не мог, как ни вглядывался.
– Моё имя Зейд ибн ар-Кабир. Я волшебник, – сказал незнакомец, не дожидаясь вопроса. Затем без обиняков заявил: – Мне нужен твой город.
Немало повидавший Мугира опешил. Некоторое время он молча смотрел на пришельца. Потом его лицо стало багроветь. Он сжал кулаки и уже открыл рот, собираясь ответить наглецу, как внезапная боль заставила его, согнувшись в три погибели, упасть на ложе. Вместо грозной отповеди из его горла вырывался жалобный стон.
Этот приступ прошёл так же внезапно, как и предыдущий. Мугира лежал, боясь пошевелиться. Он уже понял, что боль как-то связана с появлением незнакомца.
– Да, ты прав, – словно прочитав его мысли, сказал тот. – Я причина твоей боли. По своему желанию я могу её вызывать и прекращать. Я могу мучить тебя долгие годы, не убивая. Могу и убить.
– Чего ты хочешь? – спросил Мугира, боясь пошевелиться.
– Я же сказал: мне нужен твой город.
– Прости моё любопытство, – Мугира, собравшись с духом, осторожно сел на ложе. – Я правлю Куфой многие годы и знаю этот город, как никто другой. Не сочти за дерзость, но, если ты соизволишь поведать о своих планах, быть может, я смогу подсказать тебе, как лучше их осуществить.
– Что ж, это разумно, – подумав, согласился волшебник. Он подошёл к окну и долго разглядывал городские постройки, крепостную стену и пустыню за ней, простиравшуюся до самого горизонта. Не поворачиваясь, он произнёс: – Я хочу начать войну.
– Войну?! С кем? – Мугира был так удивлён, что забыл о возможном приступе боли.
– С кем? – переспросил волшебник. Он смотрел в окно, нахмурившись, о чём-то размышляя. – Мне нужна война сама по себе.
Страх Мугиры прошёл – в желании гостя не было ничего сверхъестественного.
– Кто живёт на тех холмах, что на востоке? – спросил тот.
– Персы, – ответил Мугира.
– Они одной с вами веры?
– Нет. Поклоняются своему Ормазду.
– Вот с ними ты и будешь воевать.
– Но для войны нужна причина…
– Причина нужна, чтобы дать развод жене. Чтобы начать войну достаточно простого желания.
– Прости, но я не знаю, как заставить жителей Куфы воевать с персами. Мы давно живём с ними в мире. Разве что применить чары…
– Нет таких друзей, которых нельзя превратить во врагов. Безо всяких чар.
– Не сочти за дерзость… Ты человек пришлый… Зачем ты хочешь поссорить нас с персами? Зачем тебе война?
– Не думаешь ли ты, человек, что я стану посвящать тебя в свои замыслы? – хоть голос волшебника оставался всё таким же безучастным, Мугире послышалось такое, от чего у него задрожали колени.
– – –
– Я ваш новый лекарь! – начал Зейд, стоя рядом с городским глашатаем на базарной площади перед толпой горожан. – Я принёс вам радостную весть! Хворь, поразившая вашего любимого правителя, достойнейшего и мудрейшего Мугиру ибн Шу’бу, отступила! Так возликуем же, ибо ничто теперь не угрожает драгоценной жизни сподвижника самого Пророка, да продлятся годы его!
Волшебник сделал паузу, чтобы слушатели смогли выразить охватившую их радость. Когда стих нестройный гул, он продолжил:
– Я, излечивший Мугиру, открыл причину недуга, который его поразил. Так знайте же! Ваш благословенный правитель чуть не пал жертвой злых чар, насланных персидскими магами, гореть им в Геенне Огненной вплоть до Страшного суда и веки вечные после него!
На этот раз его речь была прервана множеством голосов – присутствующие живо обсуждали новость.
– Вспомните, сколько странного произошло в последнее время! Сколько было загадочных смертей! – продолжил Зейд. – Позавчера здесь, на базаре, я своими собственными глазами видел, как некая женщина, покупая сладости, чтобы порадовать ими внуков, вдруг схватилась за сердце и упала замертво. Вчера невинное дитя, сын красильщика тканей всего трёх лет от роду, играя в мастерской отца, вдруг упал в чан с кипятком и мгновенно сварился. Было ли когда такое? Было ли, чтобы страшные, уму непостижимые бедствия валились на нашу голову одно за другим?!
Горожане слушали Зейда, согласно кивая. Некоторые вспоминали другие ужасные случаи, о которых где-то слышали, и спешили рассказать о них стоящим рядом.
– Кто из вас в последние дни не жаловался на дурное самочувствие? Скажу как лекарь: люди приходят ко мне за излечением целыми днями, с утра до ночи! Когда ещё с вами такое было? Только вчера – молодой здоровый мужчина, а сегодня у него болит голова, спина, не получается с женой!
На площади поднялся шум. Стали раздаваться голоса: «Да-да, правильно! Есть такое!». Некоторые стали выкрикивать: «Этот всё неспроста! Это козни!».
– Мудрость ваша не знает границ, сограждане! Это всё действительно неспроста! – продолжал Зейд, перекрикивая толпу. – Это заговор персов! Кому не известно их коварство?! Все мы знаем, какую ненависть испытывают эти отродья к нашей вере! Сам смысл своего существования эти собаки видят в том, чтобы нас всех до единого вырезать, наших жён изнасиловать, а детей, выпотрошить у алтаря их ложного бога Ормазда, внутренности сжечь, а их самих насадить на вертела, зажарить и съесть!
Последние слова потонули в поднявшемся гвалте. Выждав, когда можно будет говорить, Зейд продолжил:
– У этих трусливых тварей нет смелости напасть на нас в открытом бою! Так они решили ударить подло, исподтишка, в спину – наслать на нас свои дьявольские чары, чтобы уморить болезнями, а потом без боя захватить наш город, наше непосильным трудом нажитое добро и устроить на наших костях дикую оргию в честь их нечестивого лжебога!
Эти слова сопровождались одобрительными криками. Горожане грозно потрясали кулаками, их лица пылали праведным гневом.
– Так сплотимся же перед этой страшной угрозой! Ибо враг силён и коварен, а наша сила только в нашем единстве! Сомкнём же наши ряды и выступим единым строем против этих подлых захватчиков, этих врагов рода человеческого!
– – –
На следующий день крестьянин перс с сыном, пришёл на базар, чтобы продать свой мёд. Подошедший покупатель попробовал, и ему показалось, что тот с горчинкой. Решив после вчерашнего собрания, что мёд отравлен, он тут же поднял крик. Со всех сторон сбежались другие покупатели и, побросав дела, продавцы. Горячие уверения крестьянина, плохо говорившего на языке горожан, что мёд абсолютно безопасен, были приняты за оскорбления. Рукоприкладство не заставило себя ждать. Крестьянина повалили на землю и стали избивать кто чем мог: кулаками, ногами, палками. Только когда несчастная жертва перестала подавать признаки жизни, избивавшие оставили её и разошлись в стороны.
Видя, к чему идёт, перс успел оттолкнуть от себя сына. Тот забился под прилавок. Когда нападавшие утихомирились, он выбрался наружу, бросился к отцу и стал тормошить его, надеясь привести в чувство. Когда же понял, что попытки эти тщетны, и самое страшное случилось, дал выход охватившему его отчаянию. Граждане Куфы молча смотрели, как ни в чём не повинный ребёнок кричит и бьётся у трупа отца.
Постепенно рыдания стихли. Подняв голову, мальчик оглядел обступивших его чужих людей. В их глазах не было сочувствия. Поднявшись с земли, он взял отца за одежду и стал волоком тащить по земле к выходу из города. Как только он сдвинулся с места, окружавшая его толпа двинулась тоже. Напрягая все силы, он тащил истерзанное тело, оставаясь внутри живого круга, который передвигался вместе с ним. Всё происходила среди могильной тишины. Слышны были только шорох тела о землю, всхлипы мальчика, да шарканье множества ног.
Путь был неблизкий, а ноша для десятилетнего ребёнка – тяжёлой. На середине пути мальчик, совсем выбился из сил. Тяжело дыша, он сел на землю, опустив голову и обхватив её руками. Толпа по-прежнему молчала. Посидев немного, мальчик попытался было встать, но настолько обессилел, что снова вынужден был сесть. В отчаянии он заплакал.
Вдруг из толпы вышел мужчина. Не глядя на сограждан, он поднял тело, взвалил его себе на плечо и понёс. Мальчик как мог быстро встал на ноги и пошёл следом. Толпа не отставала. Выйдя за городские ворота, мужчина бережно опустил на землю страшную ношу и, по-прежнему ни на кого не глядя, пройдя сквозь толпу, вернулся в город.
– – –
Назавтра в Куфу не пришёл ни один перс. На базаре цены на финики и зерно взлетели до небес. По городу поползли тревожные слухи: персы якобы начали претворять в жизнь свой коварный план заморить город.
Как подтверждение слухов, появилась новость об ещё одном, якобы пострадавшем из-за персов. У дома жертвы стали собираться люди. Когда там скопилось уже много народу, с растерянным, перекошенным от боли лицом вышел и сам хозяин дома. Усевшись на пороге, он стал всем показывать свою покрасневшую и распухшую по самый локоть правую руку. На её ладони была рваная рана, которая появился из-за того, что вчера, желая наказать мнимого отравителя, человек сгоряча схватил палку с торчащим из неё суком.
Человек, сидя на пороге дома, держал раненую руку поднятой вверх так, чтобы все видели причину его страданий. По его лицу текли слёзы, он громко сетовал на судьбу. Вокруг сидели родичи и вторили ему во весь голос. В собравшейся толпе живо обсуждали увиденное, истолковывая его всяк на свой лад. Впрочем, все сходились на том, что здесь виден персидский след, и скоро надо ждать худшего. То там то сям раздавалось: «Сегодня он, а завтра я?».
Невесть откуда появился местный знахарь. При виде пациента его глаза загорелись. Он стал громко уверять страдальца, что раненую руку надо срочно отнять, так как если нагноение поднимется выше и достигнет мозга, тот обязательно умрёт. Причём мучится будет неимоверно. Больной стал было протестовать. Однако родичи, опасаясь, что в рану попал персидский яд, приняли сторону знахаря. В этом их поддержали и многие пришедшие поглазеть на чужое горе. За словом – дело. Несчастный был схвачен, прижат к полу навалившимися на него добровольцами из числа родичей и бывших поблизости зевак, и тут же, на глазах у множества свидетелей, знахарь бывшими при нём инструментами отрезал ему раненую руку. Вопрос о возможности излечить её другим способом никому не пришёл в голову.
Очевидцы ужасной операции поспешили рассказать о ней, кому только могли. Красок не жалели. Вскоре весь город обсуждал страшную новость. Оказывается, накануне шайка персидских головорезов, тайно проникнув в город, ворвалась в дом простой семьи. Детей похитили, хозяйку изнасиловали, а хозяину, мужественно ставшему на защиту домочадцев, зверски отрезали правую руку. И ещё говорили, что следующего нападения следует ожидать ближайшей ночью. Малочисленные голоса, твердившие, что всё это выдумки, ничего этого не было, и если что и было, то совсем не так, не принимались во внимание, а говоривших такое называли чуть ли не пособниками врага.
С вечера горожане стали готовить свои жилища к отражению нападения. Двери и окна закладывали тяжёлыми камнями. Из кладовок доставали давно не видевшие дневного света кинжалы, пики, мечи. Женщин и детей отправляли в дальние покои. На улицах появились дозоры из вооружённых добровольцев. Гарнизон в полном составе был отправлен на крепостную стену. С наступлением темноты над городом повисла тревожная тишина.
На рассвете жители окраины услышали страшный крик. Люди, прибежавшие на голос, обнаружили женщину, заходящуюся в рыданиях, над окровавленным телом. Оно принадлежало гончару, державшему мастерскую у городских ворот. Его изрезали вдоль и поперёк. Установить, кто сотворил такое зверство, не было никакой возможности. Возможно, то были чужаки, каким-то образом проникшие в город, или дозорные, не узнав в темноте собрата, выместили на нём свой страх. Последние, как один, уверяли, что смогли разглядеть троих, одетых «не по-нашему», которые, бросившись прочь от трупа, скрылись в лабиринте улиц.
Набежавшие со всех сторон люди схватили окровавленный труп и, несмотря на слёзные просьбы вдовы, понесли в центр города. У входа во дворец правителя его положили на землю. Собралась огромная толпа. Сошёлся весь город. Все требовали Мугиру. Гневно потрясая кулаками и перекрикивая друг друга, люди проклинали персов и взывали к немедленному жестокому отмщению. Некоторые разрывали одежду и наносили себе ножами кровавые порезы.
Когда неистовство толпы достигло крайности, двери дворца раскрылись, и вышел сам правитель, в ратном облачении. При виде его толпа взревела.
Мугира был бледнее обычного. Покосившись на Зейда, стоявшего за его правым плечом, он начал говорить:
– Сограждане! Страшное бедствие поразило Куфу!..
Но его слова были прерваны.
– Мугира! Веди нас в бой! – кричали из толпы. – Крови! Крови хотим! Смерть проклятым персам! Смерть!!! Смерть!!!
Крики всё не смолкали. Люди кричали, как зачарованные, не делая передышки, надсаживая горло. Постепенно множество голосов слилось в один. И вот уже, вырываясь из тысячи глоток, убивая все другие слова и мысли, над городом, громыхало одно только слово:
– Смерть!!! Смерть!!! Смерть!!!
– – –
– Мне знакомо твоё лицо, – сказал Мугира человеку, стоящему перед ним на коленях со связанными за спиной руками.
– Я тебе дворец строил, – с трудом шевеля разбитыми губами, ответил тот.
– Да-да, вспомнил. Ты каменщик, – губы правителя презрительно скривились.
Связанный промолчал.
– Назови своё имя, – велел Мугира.
– Рахим, – помедлив, сказал человек.
– Ты помогал пленному персу.
– Всего лишь дал напиться раненому.
– Он враг!
– Будь милосерден к тем, кто на земле, и к тебе будет милосерден тот, кто на небесах.
– Будешь меня учить?! Чтоб ты знал, когда Мохаммед – да будет славно его имя! – произносил эти слова, я стоял рядом!
Рахим поднял к Мугире окровавленное лицо. Он хотел что-то сказать, но передумал и опустил голову.
– Зачем ты помогал врагу? – спросил Мугира.
– Мне ли тебя учить? Ты же стоял рядом с самим Пороком… – не подымая головы, пробормотал Рахим. В его словах звучала издёвка.
– Дерзишь, собака!!! – взревел Мугира и ударил Рахима ногой в бок.
Тот повалился наземь. Стражник поднял его и вновь поставил на колени.
– Кто тебя научил стать предателем? Кто?! Кто тот лазутчик? – стал допытываться Мугира.
– Почему ты решил, что есть какой-то лазутчик? – морщась от боли, спросил Рахим.
– Потому что сам бы ты не додумался помогать врагам! – наклонившись к нему, выкрикнул Мугира. – Сколько тебе заплатили?
Рахим поднял голову и, глядя в перекошенное лицо правителя, спокойно произнёс:
– А ты сам додумался продать наш город чужеземцу? Сколько он тебе заплатил?
Мугира взревел и стал яростно хлестать Рахима по лицу. Когда его жертва, не вынеся побоев, снова упала, он продолжил избиение ногами.
Запыхавшись, Мугира отошёл в сторону и, приняв из рук слуги серебряный кубок, залпом осушил его. Бросив кубок на землю, он вернулся к месту допроса. Сел на походный табурет и сделал знак стражнику. После нескольких попыток тот смог вновь поставить Рахима на колени.
– Много таких, как ты? – спросил Мугира.
Рахим плюнул на землю кровавой слюной. Стражник хлестнул его плетью. Рахим чуть было не упал, но сделав усилие, удержался.
– Много таких, как ты? – повторил вопрос Мугира.
– Больше, чем ты думаешь, – ответил Рахим.
– Кто?
– Все, кто не забыл Великие заповеди.
Мугира сделал знак стражнику и тот нанёс Рахиму ещё несколько ударов плетью.
– Я не собираюсь выслушивать поучения того, кто стоит передо мной на коленях! – воскликнул Мугира.
– На коленях только моё тело… – пробормотал Рахим.
– Не назовёшь сообщников – тебе отрежут голову, – сказал Мугира.
– Пугаешь меня тем, что отправишь в рай? – криво усмехнулся Рахим. – Хоть там тебя не встречу.
– Нет, я тебе голову отрезать не стану. Это слишком легко, – прошипел Мугира. – Я буду долго тебя убивать. Ты узнаешь, что такое настоящая боль!
– Лучше терпеть боль, чем стать предателем, – сказал Рахим.
– За что ты хочешь причинить боль этому человеку? – раздалось вдруг.
Мугира обернулся: за его спиной стоял неслышно подошедший Зейд.
– Он помогал врагу, – сказал Мугира поперхнувшись. Прокашлявшись, пояснил: – В нашем войске персидские лазутчики. Этот не хочет их выдавать.
– Можно я с ним поговорю? – спросил Зейд.
– Поговори… – согласился Мугира.
Он хотел было встать, чтобы уйти, но Зейд жестом остановил его, а сам сел рядом на табурет, принесённый стражником. Своим обычным бесцветным голосом он спросил у Рахима:
– Я слышал, ты дал напиться пленному. Так ли это?
– Да, это так, – ответил Рахим. Подняв голову, он взглянул на Зейда тут же опустил глаза.
– Почему не смотришь? – спросил Зейд. – Я тебе неприятен?
– Меня учили не пялиться на высокородных особ, – пробормотал Рахим.
– Какая ж я высокородная особа? – Мугире показалось, что Зейд усмехнулся. – Я сирота, воспитывался в доме лекаря. Сам лекарь. В сущности, такой же мастеровой, как и ты. Ты дома? строишь – я людей лечу.
Он замолчал, глядя на Рахима. Тот замер, не подымая головы.
– У тебя семья есть? – спросил Зейд.
– Есть, – кивнул Рахим.
– Дети?
– Четверо… то есть… трое теперь уже... Старшего убили.
– Не тот ли перс его убил, которому ты дал напиться?
Рахман посмотрел на Зейда исподлобья. Бросив взгляд на Мугиру, он опустил глаза.
– Интересно получается, Рахим, – сказал Зейд. – Ты, вроде, боишься стать предателем, а сам оказываешь почести убийце твоего сына.
– Я всего лишь дал воды раненому, – тихо сказал Рахим, глядя в землю.
– Он враг! – воскликнул Зейд.
Рахим вздрогнул. Собравшись с духом, сказал:
– Он такой же, как и я.
– В чём же сходство? – спросил Зейд.
– Ни он, ни я не хотели воевать.
– Ты не хотел воевать? А не ты ли кричал на площади: «Смерть персам!»? Не ты ли вызывал к крови?
– Пока ты не появился, мы жили с ними в мире.
– Вы жили с персами в мире, чуть ли не целовались, а стоило появиться одному-единственному чужаку, и весь город захотел их погибели, – ухмыльнулся Зейд.
– Ты смутил умы, – пожал плечами Рахим.
– Не странно ли: никому не известный человек произнёс речь, и тут же чёрное стали называть белым, друзей – врагами?
– Тут какие-то чары…
– Может быть, всё наоборот? – сказал Зейд, недобро прищурившись. – Может, вас кто-то заколдовал так, чтобы вы врагов считали друзьями?
– Люди друг другу не враги. Когда Всевышний их создавал, вражды не было, – твёрдо сказал Рахим.
– А с кем было враждовать Адаму? Он был один. Но его сын убил своего брата, – Зейд сделал паузу, наблюдая за Рахимом. – Всевышний не просто создал вражду. Он следит, чтобы она не затихала. Вспомни, кто перессорил строителей башни, что в Вавилоне! Во все времена не было и дня, чтобы на земле кого-то не убили. Скажешь, без Его ведома? Или Он этого не хочет?
– Всевышний не создавал вражду. Он создал любовь, – сказал Рахим.
– Любовь нужна, чтоб людям было с кем враждовать. Чтобы взамен убитых рождались другие, – холодно ответил Зейд
– По-твоему, выходит, что Всевышний создал зло в первую очередь. А добро – потом, чтобы зло себя не уничтожило.
– Зло невозможно уничтожить. Если бы кто-то смог уничтожить всё зло, что есть в этом мире, оставшееся добро стало бы злом.
– Но добро потому и добро, что неспособно навредить! – воскликнул Рахим.
Зейд, ухмыльнулся и, чуть наклонившись к Рахиму, сказал, словно малоумному ребёнку:
– Представь, что смерть исчезла. Люди продолжают рождаться, но никто не умирает. Это добро?
– Несомненно! – согласился Рахим.
– Людей станет очень много, – продолжил Зейд. – А чем их кормить? Того, что рождает земля и так на всех не хватает. Начнётся голод, люди станут убивать друг друга за еду. Добро станет злом. Ты со мной согласен?
– Но… – сказал Рахим и замолк размышляя.
– Вот видишь, добро-таки способно обернуться злом. А смерть, которую все считают злом – на самом деле величайшее добро, – сказал Зейд назидательно.
Рахим, подумав, спросил:
– Чего ты добиваешься? Что хорошего принесёт война, которую ты затеял? От неё одно только горе…
– Вы уничтожите всех персов, и у вас больше не будет врагов, – сказал Зейд, как о чём-то само собой разумеющемся. – Эта война принесёт вам добро.
– У персов мы покупали хлеб и всё, что они растили на этой земле. Где мы теперь это возьмём?
– Будете выращивать сами.
– Но мы этого не умеем! Среди нас нет земледельцев! – воскликнул Рахим. – Мы скотоводы и ремесленники. У нас потому и был мир с персами, что они продавали нам своё, а мы им своё.
– Мир с персами у вас был потому, что вы глупы и ленивы! – воскликнул Зейд. – Вместо того, чтоб самим землю пахать, вы покупали хлеб у врагов.
– Они не враги…
– Не такой, как ты – тебе враг!
Рахим внимательно посмотрел на Зейда, горестно вздохнул и опустил голову.
– – –
Эта война закончилась так же неожиданно, как и началась. Конец ей положила спутница всех войн – чума. Поразив оба враждующих лагеря, она перекинулась на город. Не было дома, где бы ни звучали рыдания по убитому на поле брани или по умершему от страшного недуга. На обезлюдевших улицах были видны лишь похоронные процессии.
В один из дней у дворца правителя собралась небольшая толпа. Не было ни речей, ни воззваний. Люди стояли молча. Они и сами не понимали, зачем пришли. Им больше некуда было идти, негде было искать помощи и защиты. Правитель был последней надеждой.
Ожидание было тщетным – к ним никто не вышел. Ближе к вечеру двери дворца открылись, и несколько человек вынесли оттуда похоронные носилки. На них была одна из жён Мугиры. Подошедшим людям было сказано, чтобы они расходились – правителя нет во дворце. Накануне он ушёл из города.
Больше о Мугире ибн Шу’бе, правителе Куфы ничего не известно.
Часть вторая
Меня зовут Зейд ибн ар-Кабир. Я волшебник.
Мой приёмный отец считал, что добро и зло неразделимы. Полагая, что это две стороны одного и того же явления, он был недалёк от истины.
Его поиски природы зла с самого начала имели правильное направление. Он понимал, что зло – в нас. Но он ошибался, считая зло болезнью, думая, что оно материально.
Я провёл наедине с Книгой Познания больше времени, чем он. И вот к чему я пришёл.
Добро и зло действительно внутри нас. И это действительно две стороны одного и того же явления. Явление же это – наш взгляд на происходящее. Если мы видим в нём добро, то для нас оно и является добром. Также и зло – оно лишь в том, в чём мы его видим.
Причина людских усобиц не в самих понятиях добра и зла, а в том, что всяк понимает их по-своему. Разные люди, глядя на одно и то же, видят разное. То, что для одних добро, другие считают злом.
Вот простой пример. Для большинства людей разбой величайшее зло. Но те, кто убил жену и сына Абу-Алим ар-Кабира, в таком способе заработка не видят ничего дурного.
Другой пример. Как-то я был на христианской свадьбе. Когда священник сказал молодожёнам, что теперь они будут вдвоём, пока смерть их не разлучит, я был поражён. Я и представить себе не мог, что можно связать себя пожизненно с одним-единственным человеком, пусть и преисполненным всяческих достоинств. Для меня такие узы были бы страшнее каменной тюрьмы. Я сказал об этом одному из присутствующих. Он удивился, ибо такой брак для христиан наивысшее благо, и они не представляют, как может быть по-другому. Когда же я сказал, что мы можем иметь несколько жён, и любой можно дать развод, если жизнь с ней не сложились, он сначала мне не поверил, а потом назвал наши законы сатанинскими. В ответ я вспылил, мой собеседник тоже. Кровопролития не произошло только потому, что нас быстро разняли.
Я понял, что способ достичь всеобщего благополучия прост. Согласие воцарится на земле, когда все люди будут иметь одинаковые понятия о том, что добро, а что зло.
Но как этого добиться? Как сделать так, чтоб все мыслили одинаково? Ответ очевиден – надо создать общество, в котором все его члены объединятся вокруг некоей идеи. В нём волей или неволей установится единый образ мысли. Будут, конечно, и те, кто не пожелает принять общие ценности. Что ж поделаешь, во имя благополучия большинства их придётся выселить или даже уничтожить. Это не будет большим злом.
Но где же взять ту идею? В религии? В искусстве или философии? Может, это любовь или страсть к богатству? Отнюдь! Всё перечисленное способно порождать несчастья.
Будучи ребёнком, однажды я чуть не погиб. Во мне увидели причину бедствий целого города, и его жители решили меня убить. Надо мной уже был занесён смертоносный инструмент, и лишь случайность спасла меня. Та история и подсказала путь решения моей задачи.
Способ объединить людей очень прост. Он заключён в главной способности, заложенной в каждом изначально, – способности враждовать. Она так же свойственна человеческой природе, как и способность любить. Вот только ненависть сильнее, чем любовь. Оно легче вспыхивает и дольше горит. Человек готов видеть недруга в ком угодно, даже в собственной матери. А вот полюбить способен далеко не каждого.
Люди легче всего объединяются, когда видят перед собой врага. Дай человечеству достойного врага, и оно сплотится в единую массу.
Поняв эту простую истину, я приступил к действию. Чёткого плана у меня не было. Я решил начать с малого – создать прообраз моего идеального общества. Для этого я выбрал Куфу, весьма удалённый город.
Возненавидеть человек способен кого угодно, хоть чем-то отличающегося от него – не так одевается, не так разговаривает, не так смеётся. Врагами для жителей Куфы я выбрал живущих с ними по соседству персов – лишь за то, что те поклонялись другому богу.
Сначала всё шло, как я и задумал. Всего три дня понадобилось горожанам, чтобы люто возненавидеть тех, с кем они всегда жили в мире. На четвёртый же день перед дворцом правителя стояла монолитная толпа, в один голос требовавшая смерти для всех персов, искренне считая их врагами.
В тот же день началось наступление. Подобно огненному смерчу прошло наше войско по землям персов, оставляя за собой сожжённые поселения и горы изувеченных тел.
Однако уже вскоре наше продвижение замедлилось. Персы стали оказывать бешеное сопротивление. И стар и млад взялись за оружие, из-за чего, нашему войску наносился ощутимый урон. Ясно, что персы, увидев в нас врага, тоже нашли возможность сплотиться. Я это предусмотрел. Более того – изначально я был намерен построить прообраз совершенного общества, используя совсем не жителей Куфы, а ту сторону, которая победит как более сильную.
Но планам моим не суждено было сбыться. Стало происходить то, чего я не ожидал.
У нас появились люди, которые отказывались сражаться. Глядя на перса, они говорили: «Он такой же, как и я. Зачем мне его убивать?». Прилюдные казни ничего не дали – ренегатов становилось всё больше, боевой дух войска был подорван.
Персы не замедлили этим воспользоваться. Собравшись с силами, они перешли в наступление и отбросили нас к самым городским стенам. Дело было за малым – осталось только взять город и вырезать всех его жителей.
Но персы не стали этого делать. Стоя под стенами Куфы, они выслали парламентёра. Тот, придя в город, сказал следующее: «Мы наказали вас за ваш разбой. Теперь давайте заключим мир и будем жить, как и раньше. Вы будете продавать нам своё, а мы вам – своё».
Вместо того чтобы парламентёру отрезать голову и перебросить её через стену, наши генералы отпустили его, попросив один день на размышления.
Я не стал дожидаться их решения. Поразив оба войска чумой, я покинул то место, чтобы, уединившись, обдумать происшедшее и понять, где допустил промах.
– – –
Злодей выглядит злодеем лишь в глазах того, кто его таковым считает. Но человек способен менять свои взгляды. Ещё вчера он считал другого врагом, а уже сегодня, разглядев общие с собой черты, прощает его. И враг становится другом. Таково свойство существ, наделённых душой.
Я этого не учёл. В этом и был мой промах.
Поражение не заставило меня усомнился в правоте моей идеи – объединив людей ненавистью к общему врагу, создать совершенное общество. В Куфе я ошибся – выбрал не того врага. Враг людей не должен иметь с ними ничего общего, чтобы ни в одной душе не могла зародиться даже капля симпатии к нему. Творимое им зло должно быть абсолютно – толковаться как зло всеми и каждым.
Понял я и другое. Ни люди, ни какие-либо существа, наделённые душой, неспособны к абсолютному злу. Видимо, для того им и дана душа, чтобы обезопасить их от самоуничтожения. Чтобы претворить в жизнь мой замысел, я должен прибегнуть к помощи существ, душой не обладающих, природа которых – нечеловеческая.
Я принялся разыскивать таковых. Разумеется, первым делом я обратился к своему советчику и учителю – Книге познания.
Но тут я натолкнулся на нежданную преграду. Книга перестала отвечать на мои вопросы. То есть, отвечать-то она отвечала, но как-то невразумительно. Я уж было испугался – не отвергла ли она меня. Но нет, причина оказалась во мне. Когда я спрашивал о нашем мире, который мне понятен, то и вопросы мои ей были понятны. Были понятны и ответы Книги. Но на что я рассчитывал, когда принялся спрашивать о мирах нечеловеческих – о чём не имел ни малейшего представления?
Многие недели ушли на то, чтобы научиться правильно задавать вопросы и понимать ответы. Я словно заново учился разговаривать с Книгой. Да что с Книгой – с сами собой! Чтобы рассуждать о вещах, недоступных обычному пониманию, и думать надо особым образом.
И вот наступил момент, когда я почувствовал, что моя связь с Книгой возобновилась. Моё путешествие по иным мирам началось.
Где только я не был! В Небесах, Преисподней, в мирах, населённых существами, сотворёнными из земли и воды – также и людьми в точности, как и мы, – существами из огня и воздуха, подобных демонам. Видел я и существ, сотворённых из субстанций, нам неизвестных. Говорить об это можно долго. Правда, кое о чём я рассказать не смогу – в земных языках нет понятий, которыми можно не то что описать – осознать увиденное.
Нигде я не встретил того совершенного общества, о котором мечтал. Впрочем, нет, в одном мире, куда я попал случайно, таки не бывает ни разброда, ни войн.
В небесах того мира движется не одно дневное светило, как у нас, а два. Освещается он ими в разное время по-разному. Потому и растения, которыми питаются его обитатели, дают урожай то богатый, то бедный. Вся история того мира делится на столетия изобильные и столетия скудные.
Что у нас, людей, происходит, если в каком-то месте население начнёт испытывать стеснение в пропитании? Начинается голод, болезни, кто-то умирает, кто-то покидает то место, кто-то силой отбирает еду у собратьев даже и ценой их жизни. Так или иначе, но число жителей уменьшается, причём, за счёт изгнания или гибели его части.
В том мире, о котором я говорю, в скудные столетия население тоже сокращается. Но происходит это не так, как у нас.
Тамошние жители устроены особым образом. В изобильное время, когда пропитания более чем достаточно, каждый из них может сам по себе родить наследника. Что они и делают с великой охотой, в результате чего население разрастается. Когда же запасы оскудевают, их тела, ощутив первые признаки наступающего голода, утрачивает такую способность. И тогда для продолжения рода, как и у нас с вами, необходима связь двух существ. Когда же недостаток еды усиливается, то для рождения потомка должны совокупиться уже не два, а три, а то и четыре партнёра. Детей рождается меньше, население сокращается, и никто не испытывает недостатка в пропитании. Каждый проживает положенный ему срок в довольстве. Дети растут счастливыми, окружённые заботой многих своих родителей.
Какие бы пространства я ни пересекал, в каких мирах ни был – везде я наблюдал как добро, так и зло. Абсолютного же зла я не встретил нигде. Оказалось, что существа, населяющие Небеса, Преисподнюю и другие миры, людям неизвестные, в большинстве своём тоже неспособны к нему, как и люди. Многие из них имеют душу. Тем же из них, которые её лишены, Всевышний дал другие качества – каждым свои, – препятствующие воцарению зла.
Будучи в одном из весьма отдалённых миров и дивясь его необычному устройству, я вдруг понял: сколь ни захватывающе и поучительно моё путешествие, оно проделано впустую. Напрасно я пересекал бескрайние пространства в поисках существ, способных к абсолютному злу. Ведь если рассудить здраво, таковые должны существовать в нашем мире.
Абсолютное зло могут творить существа, у которых качества, этому препятствующие, отсутствуют. Причины могут быть две – то ли не получили они их при рождении, то ли почему-то утратили.
Поняв это, я поспешил вернуться в волшебную комнату и прямо спросить Книгу Познания о таких существах. Книга не промедлила с ответом: да, таковые есть. Это те, кто, будучи рождён человеком, утратил душу, но не умер, а изменил свою сущность на демоническую. Вместе с душой он утратил то, что при рождении даётся людям, а того, что даётся демонам, никогда и не имел.
Эти существа – низшие демоны, диббуки. Их способность к злу не имеет границ. Если им дать волю, они расплодятся и уничтожат всё добро во вселенной. Допустив их существование Всевышний, по-видимому, совершил промах. Однако он его исправил. Тысячи лет назад он призвал могучих волшебников, те изловили всех диббуков и заточили их в огненную темницу глубоко под землёй. Если выпустить на волю хотя бы одного из них, количество зла в мире начнёт стремительно возрастать.
Возликовав оттого, что приблизился к своей цели, я прямо спросил Книгу, как вызволить диббука из темницы. И тут произошло то, чего я больше всего боялся – Книга Познания вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, вдруг сама собой захлопнулась. Отказываясь верить в произошедшее, дрожащими руками я попытался раскрыть Книгу. Но, увы! Её страницы словно склеились, и она стала подобна сплошному куску дерева.
Три дня и три ночи я простоял у алтаря, надеясь, что Книга передумает. Я её уговаривал, извинялся, умолял. Тщетно. На четвёртый день, поняв, что вот-вот впаду в беспамятство, я вышел из комнаты, чтобы подкрепить свои силы. Вернувшись и открыв дверь, вместо алтаря с лежащей на нём Книгой я увидел кучу запылённых черепков.
Книга Познания меня отвергла.
Оправиться от этого удара было непросто. Когда же я вернул обычное своё состояние, то распрощался с некогда волшебной комнатой, навсегда похоронив её под толстым слоем песка, и отправился куда глаза глядят.
– – –
Я стремился к одному – разыскать какие-нибудь записи о тайных знаниях, оставленные теми волшебниками, которые победили диббуков. Что такие записи должны быть, я не сомневался. Любой человек, обладая знаниями какого-либо рода, стремится их сохранить, даже если они опасны и открытие их угрожает великими бедствиями. Такова природа людей. В каком виде и где содержатся записи тех волшебников я и предположить не мог.
Начал я поиски с мест средоточия знаний. Я приходил в город, где есть библиотека, школа или любое место, где бывают учёные люди. Представляясь то странствующим лекарем, то учёным, а то и просто любопытствующим, я принимался их расспрашивать, а если получал разрешение, то просматривал хранящиеся там рукописи. Конечно, я понимал: то, что я ищу, вряд ли спрятано там, где его легче всего найти. Целью моей были не столько сами записи, сколько какие-либо сведения об оставивших их волшебниках.
Мои поиски затянулись на долгие годы. Жил я тем же, что и мой приёмный отец – излечивая страждущих. Удобства житейские меня не интересовали – было бы, где голову приклонить. О создании семейного гнезда, будучи поглощённым своей идеей, я не думал.
– – –
Время – жестокие жернова. Мечты, надежды, стремления – всё, чего, казалось бы, нет прочнее, оно перемалывает в бесполезную труху. Годы скитаний и, главное, отсутствие даже малейшего намёка на то, что поиски мои могут увенчаться успехом, делали своё дело. Решимость моя стала слабнуть.
– – –
Это случилось на двенадцатом году моих странствий в одном из сирийских городков. Я сидел в харчевне и, закончив трапезу, размышлял, куда бы мне направиться дальше – за море, в страны, населённые христианами, или в обратную сторону – просить совета у мудрецов Индии. Будучи погружён в раздумья, я не заметил, как ко мне подошёл некий человек. Учтиво поздоровавшись, и назвавшись Казимом, он попросил разрешения со мной поговорить. Не имея ближайших планов, я не стал возражать.
Казим сказал, что уже какое-то время наблюдает за мной. По его мнению, я человек странствующий и, может быть, смогу помочь его горю. А горе таково. Его сестра Шакрия, овдовев, сильно захворала. Она утратила интерес к еде, ни с кем не разговаривает. С каждым днём она всё слабее и слабее. Лекари, которых Казим к ней приводил, помочь не смогли. А последний прямо сказал, что болезнь эта вызвана высшими силами и потому вылечить её нельзя. Рассказав это, Казим со слезами на глазах стал умолять меня вспомнить – может быть в тех местах, где я бывал, существует какое-нибудь средство, способное спасти его любимую сестру.
Я ответил, что сам обладаю некоторыми лекарскими познаниями, и если бы у меня была возможность осмотреть больную, смог бы дать какой-нибудь ответ.
От радости Казим чуть не упал передо мной на колени. Несмотря на мои уверения о том, что если болезнь настолько серьёзна, то мой ответ вряд ли будет утешительным, он стал меня благодарить хотя бы за те мгновения надежды, что я ему подарил. Немедля мы направились в дом Казима.
Шакрию нельзя было назвать красавицей. Таких лиц я повидал много. Вот только глаза, исполненные смертной тоски… Они вполне способны были разрушить темницу равнодушия, в которую я заключил своё сердце.
Тщательный осмотр, проведённый, согласно правилам, в присутствии её брата, показал, что болезнь Шакрии, имевшая душевную природу и вызванная жестоким ударом от неожиданной смерти близкого человека, подточила её тело. Будучи сильно запущенной, она не оставляла надежды на излечение.
В других обстоятельствах я развёл бы руками и, выразив сожаление, поспешил удалиться. Вместо этого, выйдя вместе с Казимом из покоя больной, я сказал, что сестра его действительно смертельно больна, но я мог бы попытаться если не полностью излечить, то хоть облегчить её участь.
Казим мужественно выслушал мой приговор. В ответ он сказал, что ни одно из мгновений жизни Шакрии не может быть лишним. Он пригласил меня поселиться в его доме и спросил, куда послать слугу за моими вещами. Я ответил, что в этом нет необходимости, так как всё моё имущество на мне. И я сочту за честь принять его приглашение.
Мне отвели самые роскошные покои в доме (а дом тот был богат) и предоставили всё необходимое.
Я слукавил. Вылечить Шакрию было невозможно. Меня интересовало другое. Оказанный мне тёплый приём или усталость, накопившаяся за годы странствий, или, может быть, печальные глаза Шакрии побудили меня задуматься: не отложить ли мне преследование моей цели, задержавшись в этом месте на какое-то время. И я счёл возможным вместо настоящего лечения тайно применить к умирающей Шакрие волшебство.
Применить сильные чары сразу я не решился. Наверное, потому в состоянии больной довольно долго не было никаких перемен. Она была крайне слаба. Часами могла сидеть, глядя перед собой широко открытыми глазами. На обращения Казима и мои не откликалась никак.
Дело сдвинулось, когда я стал использовать сильное волшебство. Шакрия стала крепнуть. На щеках появился слабый румянец, в сопровождении служанок она стала выходить на недолгие прогулки и даже односложно отвечала на обращения к ней.
Любой вещи с помощью волшебства можно придать свойства живого. Даже камень можно заставить разговаривать и переходить с места на место. Но как только действие чар иссякнет, он снова станет куском мёртвой субстанции. Стоило мне промедлить с очередным заклинанием или удалиться надолго в поисках ингредиентов для снадобий, к Шакрие возвращалось её беспросветное состояние.
Дни шли, и в почти мёртвом теле Шакрии начал пробуждаться дух. Её ответы перестали быть односложными. Она начала спрашивать о том, что с ней происходит, кто я такой. Временами принималась горько плакать о покойном муже. Внимательно слушала мои рассказы о местах, где я бывал. Постепенно интерес к моим историям, а вместе с ним и ко мне, стал проявляться в ней всё более. Мужа своего она уже вспоминала без слёз.
Казим не мог нарадоваться успехам сестры. Меня он теперь считал братом. Подарил мне дом рядом со своим и много денег.
У меня появилось то, чего никогда не было – ощущение собственного пристанища. Многолетние поиски стали забываться.
В один из дней я попросил у Казима руки его сестры. Казим искренне верил, что я спас Шакрию от смерти, и ей больше ничего не угрожает. Он не подозревал, что она по-прежнему стоит на краю могилы, а видимость здоровья в ней будет ровно столько, сколько я буду поддерживать таковую. Потому, не раздумывая, он с радостью согласился, и мы тут же назначили день свадьбы.
Приготовления прошли быстро, вот тот день наступил.
Я сижу перед имамом. Рядом со мной моя невеста. Потупив взор, она стремится скрыть счастливую улыбку, как того велит обычай. С нами Казим и свидетели – два его друга.
Имам торжественно зачитывает четвёртую суру Писания, говорит наставление невесте. Затем, обратившись ко мне, предлагает огласить, каков будет мой свадебный подарок. Вступает Казим. Он говорит, что я уже сделал свой подарок – подарил будущей супруге жизнь. Имам же замечает, что дарить или отнимать жизнь лишь во власти Всевышнего. Человек всего лишь исполнитель его воли. Казим, смутившись, пытается оправдаться, говоря, что хотел сказать о моём могуществе как лекаря. Имам говорит, что человек действительно способен на многое, но только, если на то будет воля Всевышнего. Ему даже известно, что давным-давно по Его воле именно люди смогли справиться с нашествием злых демонов, угрожавших всему сущему, и даже заключили их в огненную темницу.
При этих словах кровь вскипела во мне. Презрев приличия, я перебил имама и потребовал, чтобы он немедля рассказал, откуда ему об этом известно.
Имам вежливо возразил, что разговор этот – не для свадебной церемонии. Тогда я вскочил и, схватив его за одежду и приставив к горлу кинжал, потребовал объяснений. Испуганный имам пролепетал, что когда-то в молодости, заблудившись в пустыне далеко от этих мест, он попал в небольшой оазис. Там обитал один только человек – древний старик. Давно не видевший людей, он оказал нежданному гостю тёплый приём. Развлекая его беседой, он между прочим рассказал ту историю с поимкой диббуков. На вопрос, откуда она ему известна, ответил, что он и был одним из тех могучих волшебников.
Услышав такое, я отпустил имама и бросился прочь. Как был в свадебном облачении, вскочил на коня и устремился в указанное имамом место. Убегая, краем глаза я успел заметить, как Шакрия без чувств упала на руки Казима.
– – –
Имам точно указал место, где жил волшебник. Нашёл я его сразу. Однако никакого оазиса там не было. Стоя среди древних руин у высохшего колодца, я вовсю проклинал себя, за опрометчивое решение снова пуститься вдогонку за миражом. Сгоряча я не принял во внимание, что с той встречи имама с волшебником прошло уже порядочно лет. Последний, скорее всего, давно уже умер, а то, что я нашёл, – развалины его жилища.
Будучи удручён до крайности, не разбирая дороги, я побрёл прочь от того места. Отойдя уже порядочно и оправившись от потрясения, я ощутил жажду. И тут я заметил, что рядом со мной нет моего коня, к седлу которого был приторочен бурдюк с водой. Это было странным, ибо в пустыне, где нет пастбища или водопоя, коню негде было задержаться, и он должен был следовать за мной. Заподозрив неладное, я двинулся назад по своим следам.
Я вернулся к руинам. Там стоял мой конь. Он был рассёдлан. Я подошёл к нему и осмотрел. Конь был вычищен. Его морда была мокрой, будто он только что пил воду.
Отведя взгляд от лошадиной морды, я огляделся по сторонам. Руин не было. На их месте стоял большой дом, окружённый тенистым садом.
В следующее мгновение я ощутил укол в плечо, и свет в моих глазах померк.
– – –
– Я знаю, зачем ты здесь, Зейд ибн ар-Кабир, – услышал я голос. – Пророчество сбылось. Второй посланец Сатаны пришёл в этот мир.
– Кто ты? Как твоё имя? – спросил я.
– Когда-то у меня действительно было имя… Уже тысяча лет, как я его забыл, – мне показалось, что говоривший усмехнулся. – Называй меня Халидом.
– Чему ты радуешься, Халид?
– Как же не радоваться? Сегодня долгожданный день. Наконец-то я умру!
– Не думал, что смерть может обрадовать!
– Смерть – наивысшее благо, которое Всевышний дал людям. Понимаешь это уже после первых ста лет жизни.
– Почему ты назвал меня посланцем Сатаны?
– А ты не знаешь? – Халид опять усмехнулся. – Тот, первый, знал…
– Поведай же!
– Поведать?.. Почему бы и нет? После четырёх тысяч лет ожидания ещё один час ничего не меняет.
Меня снова укололи в плечо, и вскоре вернулось зрение.
Я сидел на каменной скамье посреди зала, освещённого одной лишь масляной лампой. Хоть на руках и ногах моих не было пут, пошевелить ими я не мог.
– Где ты, Халид? – позвал я.
– Здесь перед тобой, – ответил он.
Раздались шаги, и из сумрака ко мне вышла Шакрия. На ней было свадебное платье, в котором я её видел в последний раз.
– Не удивляйся, – сказал Халид (а это был он). – Настоящий облик давно наскучил мне. Ничто так не надоедает за тысячи лет, как собственное тело. Я научился меняться по своему желанию. Сейчас я в обличье убитой тобой женщины. Она будет последним человеком, кого ты будешь видеть.
– Голос ты менять не научился, – заметил я.
– Просто не хочу. Мне нравится мой.
– Почему она последняя, кого я увижу?
– Потому что я умру не один, – сказал Халид, глядя мне в глаза. Помедлив, он продолжил: – Сегодня день и твоей смерти.
Он замолчал, как видно, чего-то от меня ожидая.
– Ты обещал интересный рассказ, – напомнил я.
– Обещал… – сказал Халид, не дождавшись ожидаемого. – Так слушай же!
Он сел на появившейся ниоткуда оббитый белым атласом диван и стал говорить.
Рассказ Халида
Я рано осиротел и ребёнком жил при храме одного из богов, которому поклонялся мой народ. Дар чародейства был у меня уже тогда. К примеру, я мог наслать на человека коросту или вызвать падучую. С той же лёгкостью я мог и излечивать от разных болезней.
Прознав о моём даре, жрец храма велел мне втайне наводить порчу на прихожан так, чтобы они, болея, дорого платили ему за излечение. Снимать порчу, разумеется, должен был тоже я, стоя за его спиной. Если человек мог заплатить много, то через короткое время по указке жреца я насылал на него новую болезнь. Если же больной не мог или не хотел платить, жрец запрещал мне облегчать его участь, и та болезнь заканчивалась плачевно.
Волю жреца я выполнял безропотно, хоть он и присваивал весь наш нечистый доход, оставляя меня питаться одной лишь пустой похлёбкой.
Дело наше было успешным. Через короткое время уже никто из жителей поселения не мог похвалиться ни богатырским здоровьем, ни достатком в доме. Наставник же мой не стыдился кичиться своим состоянием.
Со мной он не делился не только добычей, но и тем, что более ценно – житейским опытом. Когда сограждане мои, поняв причину своих несчастий – ведь обман всегда недолговечен, – разъярённой толпой явились в храм, умудрённого жизнью жреца и след простыл. Меня же он оставил на растерзание толпе.
Тысячи лет живу и тысячи лет не могу забыть, как меня, отчаянно сопротивлявшегося, волокли к раскалённой жертвенной печи. Ужасу моему не было предела. Ощутив нестерпимый жар пылающего горнила, я зажмурился и страстно пожелал, чтобы случилось чудо, и всё это прекратилось. Каких земных богатств это ни стоило, я бы всё отдал.
Только я подумал об этом, раздался громкий металлический звон, державшие меня руки разом разжались, и я упал на каменные плиты храма.
Не веря своему спасению, извиваясь, как змея, я прополз под ногами моих мучителей и забился в дальний угол.
Из своего укрытия я видел, что все бывшие в храме замерли, словно в недоумении. И каждый из них ярко сиял золотым блеском. Присмотревшись, я понял суть этой метаморфозы. Сограждане мои, стремившиеся меня умертвить, более не были живыми людьми. Все они теперь были золотыми изваяниями.
Чудо, о котором я молил, случилось – моя казнь была остановлена. Взамен неё явилось невесть откуда взявшееся несметное богатство.
Не ожидая дальнейших событий, я устремился прочь. Выбравшись наружу и вздохнув с облегчением, я вдруг наткнулся на некую фигуру, решительно преградившую путь дальнейшего бегства. Решив, что этот некто не был в храме и ещё не передумал меня убивать, я стал показывать ему: иди туда, там – золото!
Однако намерения незнакомца были иными. Протянув руку, он коснулся моей головы. На миг я ощутил дурноту, а затем почувствовал, что нахожусь уже не в нашем поселении, а в каком-то другом месте.
– – –
Там не было ничего. Совсем ничего. Ни одной вещи. Ни света, ни тьмы. Ни тепла, ни холода.
– Где я? – задал я вопрос.
«Не где, а когда, – сказал неслышимый голос. – Ты между двумя мгновениями. Между прошлым, которое уже умерло, и будущим, которое ещё не родилось».
– Почему я здесь?
«Ты один из Троих».
– Кто эти Трое?
«Три про??клятых волшебника».
Каким-то внутренним зрением я увидел, что здесь я не один. Были ещё двое.
– За что я проклят? – спросил каждый из нас.
Тот же голос ответил:
«Бурхан проклят за то, что, обернувшись коршуном, убил змею».
– Если бы я не сделал этого, она бы убила соловья, который своим пением не очаровал прекрасную девушку и не вызвал у неё любовь к некоему юноше, – пояснил Бурхан.
«У той пары родился младенец. Далёкий его потомок вызовет войну, в которой погибнет половина человечества».
– Я не знал этого!
«Что сделано – то сделано! Халид проклят за то, что насылал на ни в чём не повинных людей болезни, а потом, чтобы спастись от праведного гнева превратил их в золото».
– Это случилось само собой! – воскликнул я.
«Оставшиеся в живых твои сограждане в борьбе за это золото перебьют друг друга. Когда же весть о нём разнесётся по миру, многие бросят свои дома и семьи, пустятся во все тяжкие, чтобы завладеть им. Тысячи жизней будут погублены из-за жёлтого металла».
– Я не хотел этого!
«Что сделано – то сделано! Мактум проклят за то, что, получив редкий по силе дар волшебника, никак его не использовал».
– Тому была причина.
«Ты не отвращал бедствия, не прекращал усобиц, ничего не создал полезного, хотя обладаешь нужными способностями. Имея возможность принести много добра, ты этого не делал, что есть величайшее зло, какая бы ни была тому причина».
– Зачем я здесь? – спросил каждый из нас.
«Все вы способны изменять природу вещей. В этом нет вам ровни. Но каждый из вас способствовал злу, за что вы и прокляты. Умерев, вы попадёте в ад, где будете вечно терпеть муки, придуманные нарочно для вас. У вас есть только один путь спастись, искупить вину».
– Что я должен делать? – спросил каждый из нас.
«Вам предстоит избавить мир от диббуков».
– Но кто они такие? – спросил Бурхан.
«Это существа демонической природы, обладающие непревзойдённой злобностью. Среди всех созданий, созданных Всевышним, именно они способны творить наибольшее зло».
– Как же мы с ними справимся? – спросил я.
«О диббуках мало что известно – ни об их свойствах, ни о том, как их можно победить. Сейчас вы разойдётесь по земле в поисках необходимых знаний, а ровно…».
– Я не буду этого делать! – перебил Мактум. – И никакие кары мне не страшны!
Словно не услышав его, голос продолжил:
«Ровно через двенадцать лет в этот же день, в этот же час, в это же мгновение вы снова окажетесь здесь и предъявите добытое вами. И остерегайтесь не выполнить это поручение!».
После этих слов я снова оказался подле нашего храма среди людей, которые, не замечая меня, стремглав бежали к храмовым воротам, за которыми виднелось золотое сияние.
Покинув поселение, я отправился в дальний путь. Не стану описывать мои странствия – рассказ не об этом. Ровно через двенадцать лет, как и было обещано, я снова оказался в промежутке между двумя моментами времени.
Остальные были там же. Голос велел: «Поведайте же, немедля, что узнали вы о нашем деле!»
Бурхан сказал:
– Я узнал о природе тех существ. У них одно занятие – губить человеческие души. Если душа чиста и незапятнанна, то вселяясь в такого человека, демон долго с наслаждением её пожирает. Если же человек склонен творить мерзости, демон всячески потворствует этому, чтобы отягощённая грехами душа по смерти тела опустилась на самое дно Преисподней и сгорела там в адовом пламени.
– Те существа неуязвимы, поскольку не содержат в себе ничего, что можно было бы разрушить. По той же причине для них не существует преград. Сквозь каменные стены они проходят столь же легко, как и сквозь плоть внутрь тела. Только одна субстанция может служить им преградой – огонь, который, родившись, ни разу не соприкасался с воздухом. Это тот огонь, который вырывается из глубин земли через жерла огненных гор, называемых вулканами. Если демонов заключить в тюрьму из такого огня, они будут её узниками столько, сколько будет существовать та тюрьма.
Я сказал:
– Есть некий тайный обряд. Совершивший его призовёт демона из любого места, где бы тот ни находился. Даже огненная тюрьма не помеха. Этот обряд я накрепко запомнил, а свиток, на котором он был записан, сжёг.
– И ещё я узнал, что Сатана будет всячески препятствовать освобождению тех демонов. Его посланцы будут мешать нам, а если наше дело удастся – освободить диббуков. Всего таких посланцев два.
Мактум сказал:
– Я только что узнал, что вам обоим известно об этом деле. Так знайте же! Я и есть посланец Сатаны! Я давно его ярый приверженец. Всю жизнь я искал возможность послужить ему. Теперь же я употреблю свой волшебный дар, который годами берёг, на то, чтобы помешать вам добиться желаемого.
– – –
Сразу после слов Мактума я увидел себя в странном месте. Я стоял среди толпы, которая двигалась, обтекая меня. На людях были одежды, мной невиданные. Большинство было с непокрытыми головами. Лица женщин были открыты и у многих умело накрашены. Их одежда весьма откровенно обозначала приятные округлости их фигур. Многие были одеты так же, как и мужчины. И мужчины, и женщины, как видно, не были научены приличиям – они не стеснялись в выражении одолевающих их чувств. Они громко разговаривали и смеялись. Женщины открыто улыбались мужчинам. Некоторые пары целовались на виду у всех.
То место было окружено огромными, почти до неба скалами. Присмотревшись, я увидел, что те «скалы» рукотворны, внутри у них горят огни и есть люди. Не сразу я понял, что это дома?, в которых люди живут и молятся своим богам.
Но больше, чем дивные дома меня поразили сновавшие между ними повозки. Они были сплошь из неизвестных мне материалов, отдалённо напоминавших бронзу, из которой сделаны наши орудия, и стекло, в сосудах из которого мы храним благовония. Повозки приводились в движение неведомыми зверьми, спрятанными в их недрах, откуда доносилось лишь негромкое урчание.
Движущаяся во всех направлениях толпа не обращала на меня ни малейшего внимания. По лицам спешивших людей было видно, что растерянно озирающийся чужак им совершенно безразличен. Никто не собирался, как это принято у нас, выразить почтение незнакомцу. На мои попытки просто поздороваться, они отводили глаза и торопились обойти меня стороной. Язык, на котором они говорили между собой, мне был незнаком.
После безуспешных попыток с кем-нибудь заговорить я сел на каменные плиты, покрывавшие землю. Люди по-прежнему обходили меня. Никто не остановился, чтобы проявить ко мне хоть крупицу внимания.
Не понимая, где я и что мне делать, я просидел долго. Когда небо, которое можно было различить между вершинами домов, стало темнеть, вокруг зажглось множество ярких огней. Люди заторопились ещё больше, голоса и смех стали раздаваться громче. Чувство одиночества, уже возникшее во мне, от этого многократно усилилось.
На меня навалилась смертная тоска. Я был чужаком в незнакомом мире, населённом непонятными людьми, которым до меня не было никакого дела. Такого одиночества я не испытывал никогда. Даже в пустыне в окружении диких зверей, жаждавших отведать моей плоти, я не чувствовал себя таким чужим, как среди этой толпы самодовольных, равнодушных моих сородичей. Двенадцать лет жизни я потратил на поиски спасения рода человеческого. В награду меня обходят стороной, словно лежащий на дороге ненужный хлам. Я подумал: воистину, проклят тот день, когда Всевышний слепил Адама из куска грязи! И проклят я, наделённый по Его воле страдающей душой! Лучше б мне её не иметь!
Я почувствовал прикосновение. Обернувшись, увидел женщину. Бывшая на ней одежда скорее открывала, чем скрывала её прелести. Заглянув мне в глаза, женщина, повернувшись, направилась по улице, жестом руки поманив меня за собой. Я поднялся с земли и, словно бык на заклание, покорно пошёл следом.
Пришли мы в комнату, в которой было ложе. Женщина без лишних слов сбросила с себя одежду и легла, приняв весьма соблазнительную позу. От картины, которая мне открылась, моё достоинство напряглось вне всякой меры. Я бросился было вперёд, желая поскорее удовлетворить вскипевшее во мне желание, но был остановлен жестом её руки. На понятном мне языке, женщина сказала, что готова доставить мне наивысшее наслаждение, если взамен я отдам ей то, с чем и сам готов расстаться.
Если бы я сходу овладел ею, то мне не жить. Того мгновения, что дал мне демон, хватило, чтобы уразуметь: цена наслаждения – моя душа. Вместо того чтобы продолжить начатое, я выхватил бывший при мне кинжал и, набросившись на демона, стал наносить удары.
Раздался оглушительный звериный рык, вспыхнуло ярчайшее пламя. Через мгновение я, ослепший и оглохший, продолжая наносить удары в пустоту, оказался в совершенно другом месте.
– – –
Я стоял на краю обрыва. Подо мной ярко пылало озеро расплавленной лавы. Его поверхность колыхалась. Местами на ней появлялись пузыри, которые лопались с гулким звуком, выбрасывая ядовитые испарения.
Оглядевшись, я понял, что нахожусь на вершине горы у самого жерла вулкана. От него исходил нестерпимый жар, от которого одежда моя и волосы стали дымиться. Дышать было нечем. Воздух был наполнен парами серы и ещё какой-то мерзости.
Опомнившись, я бросился прочь, не выпуская из рук кинжала, вымазанного чёрно-красной дымящейся субстанцией. Бежать пришлось вниз с горы. Я много раз падал и катился по земле, усеянной острыми камнями. До подножия горы я добрался весь израненный в разодранной одежде.
Там был ручей. Припав к нему, я долго, с наслаждением пил. Затем погрузился в него весь и лежал там, пока не почувствовал, что меня пробирает холод. Выйдя на берег и оглянувшись, я увидел, что вслед за мной из воды выпрыгивают отвратительные создания – полулюди-полуамфибии. Их породила кровь демона с моего кинжала, которая смешалась с кровью, вытекшей из моих порезов. Задние лапы и хвосты у них были, как у тритонов. Головы же и руки – человечьими. Лицом некоторые походили на меня. Что-то по-жабьи лопоча, они ринулись ко мне, не иначе как с намерением впиться своими кривыми зубами. Вне себя от ужаса я стал камнями убивать этих гнусных тварей.
Ко мне подоспела помощь. То был Бурхан. Вид его был столь же жалок, как и мой. Вместе мы быстро справились с омерзительными тварями, которых было больше десятка. Убив последнего, мы сбросили трупы в ручей, чтобы вода унесла их подальше от наших глаз.
Бурхан очутился в этом месте немногим ранее меня. Не знаю кто, возможно, сам Сатана, приготовил нам одну и ту же ловушку. Ощутив непреодолимое одиночество и впав от этого в отчаяние, мы должны были отказаться от своей души и добровольно отдать её подосланному демону.
Отдышавшись, мы огляделись, чтобы понять, где находимся. Окрестности на сто шагов были в дымке от испарений Огненной горы. Из-за этой дымки доносился какой-то равномерный шум.
Бурхан, обратившись коршуном, взмыл ввысь. Вернулся он нескоро и совсем не с той стороны, куда улетел. Полёт его был неуверенным, на землю он не сел, а, скорее, упал. Вернув человеческий облик, он предстал передо мной сильно уставшим, к тому же левая его рука висела плетью.
Новости, принесённые Бурханом, были нерадостными. Место, где мы очутились, было затерянным посреди океана островом, большую часть которого занимала Огненная гора. Взлетев, как мог, высоко, Бурхан увидел за пределами острова простиравшуюся насколько хватало глазу водную гладь. Перелететь это пространство он не решился – коршуну такое не по силам. Там не было ни других островов, ни какого-нибудь корабля. Даже если бы таковой и случился, он всё равно не смог подойти к острову, окружённому сплошной цепью рифов, об которые с грохотом разбивались волны, чей шум мы и слышали.
Облетая остров, с другой его стороны Бурхан заметил притаившегося Мактума. Увидев коршуна, тот метнул камень, попав в крыло. Лишь чудом Бурхан долетел до места.
– – –
– Как рука, Бурхан? – раздалось за нашими спинами.
Мы обернулись – то был Мактум.
– Зачем ты это сделал? – спросил Бурхан.
– Чтобы тебя убить, – Мактум сел на камень в трёх шагах от нас. – Жаль, не получилось.
– Зачем тебе нас убивать? Что тебя заставляет служить Сатане? – спросил я.
– Ничто. Таков мой свободный выбор. Я свободный человек, – ответил Мактум. Добавил: – В отличие от вас.
– В чём же твоя свобода? Делать мерзости? – спросил я.
– Мерзости, благодеяния… добро, зло… Игра слов! – поморщился Мактум. – Посмотришь – белое, зайдёшь с другой стороны – чёрное. Что для одних добро – для других зло.
Мы с Бурханом только переглянулись.
– Чего ты хочешь, Мактум? – спросил Бурхан.
– Спасти демонов. Любой ценой, – твёрдо сказал тот. – Не дать их уничтожить.
– Но такова воля Всевышнего… – рассудил Бурхан.
– Ты о голосе, который разговаривал с нами, не называя себя?
– Это кто-то из Его ангелов. А может быть, и Он сам.
– Вряд ли. Все существа Вселенной созданы Всевышним. И диббуки тоже. Было ли когда, чтобы Он искоренил им же созданное? Даже наслав Всемирный потоп, Он спас Ноя, чтобы род человеческий не прекратился.
– А если диббуки – ошибка, которую Он хочет исправить? – предположил я.
– Он не ошибается, – ухмыльнулся Мактум.
– А твой хозяин ошибается? – осторожно спросил Бурхан.
– У меня нет хозяина, – спокойно ответил Мактум. – Сатане я служу по доброй воле.
– Чем же он тебя привлёк? – поинтересовался я.
– Свободой, – ответил Мактум. – Он ничего не навязывает, не поучает: что хорошо, а что плохо. Добро и зло для него не имеют отличий.
– Если ты, как и Сатана, не видишь различий между добром и злом, то что тебе до диббуков? – сказал Бурхан. – Справимся мы с ними или нет, тебе должно быть безразлично.
– Я им сочувствую.
– Вот как! – воскликнул Бурхан. – Чем же они для тебя так хороши?
– Они не всегда были демонами. Когда-то они были людьми. Многие из них – личностями необыкновенными. Каждый делал какое-то дело, отдаваясь ему беззаветно, вкладывая душу. Однако ими пренебрегли. Разочаровавшись в людях, они добровольно отвергли свою человеческую природу и стали тем, кем стали.
– Кому ты сочувствуешь, Мактум, диббукам или людям, которыми они когда-то были? – спросил я.
Мактум задумался. Не дождавшись его ответа, Бурхан сказал:
– Невозможно сочувствовать кому-либо, отвергая различие между добром и злом. Ибо сочувствие есть отрицание применения зла, – и добавил: – Плохо же тебя Сатана научил, Мактум!
– Не отвергать различий между добром и злом? – вспылил Мактум. – Это ли не истинное проклятие? Вспомни: Адама выгнали из рая как раз за то, что он вкусил от древа познания добра и зла!
– Ах, вот как! – воскликнул Бурхан. – Ты в обиде, что живёшь не в раю!
– Ты глумишься надо мной?! – гневно воскликнул Мактум, вскочив и потрясая кулаками. Но увидев, что мы оба изготовились биться, взял себя в руки. Вернувшись на свой камень, сказал: – Всевышний создал человека, во всеуслышание заявив, что это образ и подобие Его, а потом сделал так, чтобы тот никогда не смог с Ним сравняться! Это ли не величайшее зло?
Бурхан хотел сказать что-то резкое, но сдержался.
– Из слов можно сплести любое кружево. Вижу, ты в это мастер, – сказал он. – Подобно косоглазой девке, за этим кружевом ты прячешь свой изъян.
– Какой же у меня изъян? – лицо Мактума пылало гневом.
– Ты неудачник. И сочувствуешь неудачникам.
– И кто меня неудачником называет?! Волшебник, которого прокляли!
Бурхан не нашёлся, что ответить. За него это сделал я:
– Человек меняется. За эти годы я много передумал и хочу искупить свою вину.
– Как и я, – согласился Бурхан. – А вот ты не нашёл в себе сил для этого.
– Я остался при своём. Я честен! – ответил Мактум. – А вы оба подобны лживым трусливым собакам, которые лижут ноги тому, у кого в руке палка!
– Меня никто ни к чему не принуждал! Я сам сделал свой выбор! – воскликнул я.
– Никто ни к чему не принуждал? Разве? – в тон мне ответил Мактум. – Разве по своей воле ты двенадцать лет скитался по свету в поисках способа для убийства? Или по своей воле попал ты сюда, на этот пустынный остров? Ты так глуп, что не понял: наш загадочный работодатель заточил нас сюда именно для того, чтобы принудить выполнить его волю. Принуждение к добру! Это ли не лицемерие?
– Разве не твоими стараниями мы здесь? – удивился Бурхан.
– Нет! Всех нас троих поместили сюда насильно! – ответил Мактум.
– Тогда всё ясно! – воскликнул Бурхан.
Он подвигал раненой рукой, которую за время разговора я успел ему излечить лишь мне известным способом. Убедившись, что рука действует, сказал:
– Мактум, как по-твоему, убить тебя это добро или зло?
– – –
Не дождавшись ответа, он обернулся тигром и бросился на Мактума. Тот ответил молниеносно – перед тигром возник гигантский слон, стоящий на задних ногах и громко трубящий. Не дожидаясь, когда Мактум, опустившись, передними ногами раздавит тигра, я наслал на него слепоту. Ответом был внезапно охвативший меня паралич. Падая, я увидел, как слон обрушился на тигра, но тот ухитрился выскользнуть прямо из-под его ног.
Мой паралич продолжался недолго. Восстановив подвижность членов и вскочив на ноги, ни слона, ни тигра я не увидел. Высоко в небе над моей головой, издавая громкий клёкот. Там насмерть бились два коршуна. Я понял замысел Мактума – он превратился в то же животное, что и Бурхан, чтобы я не знал, кого из них двоих поразить своими чарами. Я стоял и беспомощно наблюдал, как две прекрасных птицы, разлетевшись, затем с силой слетаются, нанося друг другу удары клювами и когтями, от которых во все стороны летят перья и брызги крови. Так продолжалось, пока один из коршунов, вцепившись когтями противнику в брюхо, не сложил крылья и потащил его вниз, рискуя вместе с ним разбиться о камни. Этого не случилось благодаря усилиям второй птицы, неистово махавшей крыльями.
Опустившись на землю, волшебники откатились подальше друг от друга и вернули свой облик. На них страшно было смотреть – оба были покрыты ужасными ранами, из которых ручьями лилась кровь. Я применил все свои способности, чтобы побыстрее излечить Бурхана. По мере того, как затягивались его раны, приходил в себя и Мактум.
– Я понял твоё свойство, Мактум! – сказал Бурхан, когда к нему вернулась речь. – У тебя нет своего волшебства. Ты воруешь чужое. Какие бы чары мы с Халидом ни творили, ты отвечаешь такими же. Это и есть причина, по которой ты так и не проявил своего волшебного дара – не у кого было украсть. Потому ты и неудачник!
– Да, ты понял правильно. Я обращаю против вас ваше же волшебство, – ответил Мактум. – Чем крепче ваш удар, тем сильнее мой ответ. В этом моя сила. Не я погублю вас. Вы сами убьёте себя!
Оба противника окончательно отдышались, и сидели, разделённые десятью шагами, исподлобья глядя друг на друга. После долгого молчания Бурхан сказал:
– Давай решим наше затруднения, как это приличествует мужчинам – в честном поединке безо всякого волшебства. Или ты боишься?
– Я не боюсь ни тебя, ни кого-либо! – воскликнул Мактум. – Вот только сомневаюсь в вашей честности. Я выйду на бой с одним условием. Если этот мерзкий знахарь не будет путаться под ногами! – с презрительной миной он кивнул в мою сторону.
Мне пришлось дать клятву: как бы ни сложились обстоятельства, ни во время поединка, ни до него, ни сразу после я вмешиваться не стану и не сделаю ничего, что могло бы помочь одной стороне и ли помешать другой. Однако же я оставил за собой право на любые действия, не связанные с поединком.
Наблюдать за схваткой я не собирался. Исход её меня не интересовал. Я собрался совершить нечто страшное, на что при иных обстоятельствах не решился бы.
– – –
Отойдя в сторону, я начал приготовления к ужасному обряду. Сам обряд описывать не стану – это величайшая тайна. Если Всевышний будет милостив ко мне, я унесу её в могилу, чтобы никто более не смог совершить то, что довелось совершить мне. Иначе – сколь ни мучительна моя жизнь, посмертные страдания будут во сто крат мучительней.
Предприятие моё было весьма рискованным и не только из-за его возможного финала, но и потому что на безлюдном острове, где я пребывал, у меня не было всех необходимых предметов и субстанций. А посему результат его мог быть намного более ужасным, чем я предполагал. И в первую очередь для меня самого.
Когда схватка между волшебниками началась, я приступил к обряду. Под яростные крики дерущихся я произнёс первые слова заклинания. В тот же момент свет стал меркнуть. С каждым моим словом становилось всё темнее, а в доносившемся из-за тумана шуме волн стало слышаться звериное рычание. Пространство вокруг наполнилось красными отблесками, исходившими с вершины горы. Мне начало казаться, что я не на острове, а в пасти гигантского зверя, глоткой которого было жерло вулкана. Земля под моими ногами задрожала. От окружавшей меня мглы стали отделяться какие-то тени и, находясь в отдалении, двигаться вокруг того места.
Вдруг я услышал крик отчаяния и последовавший за ним победный вопль. Отвлёкшись на мгновение, я взглянул туда, где сражались волшебники. Мактум стоял, торжествующе потрясая кулаками, у его ног со сломанной шеей лежал несчастный Бурхан.
Я продолжил обряд, и вскоре тени, осмелев, стали осторожно ко мне приближаться. С ужасом я понял, что это были призванные мной диббуки. Их уже можно было разглядеть.
Несомненно, когда-то они были людьми. Но став существами из воздуха и огня, они изменили свои тела самым причудливым образом, словно в насмешку над человеческой природой.
Там были люди со звериными головами, и, наоборот, те, у кого из человеческого только голова и осталась. У некоторых росли не руки, а плавники или вместо ног – паучьи лапы. Были там существа, обладавшие совершенно невообразимыми свойствами.
Так, один из них то и дело снимал, выворачивал наизнанку и снова надевал свою кожу, превращаясь то в благообразного старца, то в красивого юношу. Была там обнажённая дева, у которой вместо волос на теле копошились черви. Были там близнецы, юноша и девушка, сросшиеся спинами, каждый держал перед собою зеркало, чтобы видеть лицо другого. Был там согбенный старец с лицом новорождённого младенца, плевавшийся ядовитой слюной, которая, подобно кислоте, разъедала всё, на что попадала.
По мере исполнения мной обряда демонов становилось всё больше. Когда я счёл, что их достаточно, то, указав на Мактума и произнеся некоторые слова, приказал им напасть на него.
Мактум, видимо, этого ожидал. Он издал громкий крик, и из-под его ног из земли стали быстро выползать чудища сродни тем, что призвал я. Очень скоро диббуков Мактума стало не меньше, чем моих. Стремясь защитить призвавшего их, они напали на моих демонов.
Батальная сцена, которая разразилась, не может привидеться и в горячечном кошмаре. В яростном исступлении нападали диббуки друг на друга, пуская в ход руки, ноги, зубы, когти. Особую жуть придавала этой картине гробовая тишина, в которой всё происходило. Не слышно было ни криков, ни хруста ломаемых костей, ни чавканья разрываемого мяса. Лишь иногда мне казалось, что я слышу едва уловимый тихий шелест.
В этой баталии не было убитых. Увечья, наносимые существам, умертвить которых невозможно, к смерти не приводили. Раны мгновенно затягивались, оторванные члены отрастали вновь.
Вскоре я понял: цель схватки диббуков не в убийстве, а в том, чтобы побеждённый перешёл на сторону победителя. Я заметил, что демонов Мактума стало больше, чем моих, за счёт последних, принявших его сторону. Моя армия сокращалась всё быстрее, и вот наступил момент, когда я остался в полном одиночестве, в то время как за спиной Мактума скопилось полчище ужасных тварей. Битва прекратилась, победа была одержана, причём не мною.
На несколько мгновений, которых вполне хватило, чтобы я осознал плачевность своего положения, на поле боя всё замерло. Затем Мактум резким голосом скомандовал своему воинству напасть на меня.
Сотни кошмарных глоток, вдруг нарушив тишину, в один голос издали боевой вопль, от которого содрогнулась сама Огненная гора, ответив на него вспышкой пламени из жерла вулкана. Чудовища, разом сорвавшись с места, ринулись на меня, одиноко стоящего перед ними.
Не знаю, есть ли в этом мире существо, испытавшее такой ужас, какой в тот момент испытал я. Зажмурившись, я страстно пожелал одного – чтобы всё это тут же прекратилось. Каких земных богатств это ни стоило, я бы всё отдал!
Только я об этом подумал, раздался громкий металлический звон, и всё стихло.
Не веря своему спасению, я открыл глаза. У самых моих ног лежал тот диббук, который умел снимать кожу. Он был весь из золота. Я огляделся. Всё пространство вокруг было усеяно золотыми фигурами. В золото превратились все, кто желал моей погибели: и диббуки, и Мактум.
Много дней затем я потратил на то, чтобы перетащить все золотые изваяния на вершину Огненной горы и, сбросив в жерло вулкана, утопить их в озере расплавленной лавы.
Когда последняя фигура скрылась под поверхностью огненной жидкости, я почувствовал дурноту, в глазах у меня потемнело, и через мгновение я увидел себя здесь, в этом месте.
Уже знакомый голос сказал, что я справился с порученным – заключил в огненную темницу, бывшую в глубине вулкана, всех диббуков, этого мира. Свою вину я искупил почти полностью. Полное же искупление наступит, когда я уничтожу второго посланца Сатаны, который придёт, чтобы вызволить диббуков из их узилища. Искать этого посланца не надо – он сам найдёт меня. Вот только неизвестно когда – через несколько дней или тысячелетий. А поскольку убить его могу лишь я один, то и умереть мне будет позволено не раньше, чем это случится.
И вот этот день наступил!
Продолжение рассказа Зейда
Я не считаю себя посланцем Сатаны. Никогда ему не служил. Впрочем, как и Всевышнему. Я служил только моей идее – объединить людей ненавистью к общему врагу и таким образом создать общество, в котором царило бы согласие.
Халид допустил ошибку.
Вводя в моё тело парализующую субстанцию, он рассчитывал убить меня быстро. Но пока я слушал его рассказ, её действие ослабло. И когда он, выхватив кинжал, подошёл, чтобы осуществить тысячелетнюю мечту, я уже был способен сопротивляться.
Справиться со стариком, хоть и в образе молодой женщины, было несложно. Крепко связав, я сбросил его на дно бывшего в том месте колодца, который затем наполнил доверху обломками его дома, разрушенного мной. То место я скрыл от людских глаз волшебной пеленой. Найти его не сможет никто.
Халид и сейчас лежит там, погребённый под горой обломков, тщетно ожидая смерти.
Я не стал выпытывать у него обряд, с помощью которого он призвал диббуков. По своей воле он бы ничего не сказал, а подвергать пытке того, кто мечтает о смерти – пустая трата времени. Я решил: если Халид смог разузнать о том обряде, смогу и я. Вряд ли тот свиток, что он сжёг, был единственным.
Я снова отправился на поиски. В этот раз они были недолгими. Я не стал искать в местах средоточия знаний, точно зная, что ничего там не найду. Вместо этого я направился в одно из самых безлюдных мест на свете – в пустыню Эль-Хаса. В самой её середине я нашёл некую секту, полностью удалившуюся от мира. В своих катакомбах они хранили древние рукописи, содержания которых сами не понимали.
Уничтожив ту секту, я добрался до рукописей. В одном из свитков было подробное описание того обряда.
Я возликовал – цель моя близка, я стою на самом её пороге. Однако моё торжество тут же сменилось унынием. При внимательном прочтении свитка, оказалось, что призвать демона может далеко не каждый. Призывающий должен быть дважды проклятым. Одно проклятие – родовое, которое он унаследовал от предков. Второе же – проклятие про?клятого – должен был наложить тот, кого тоже прокляли. Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что первой жертвой призванного диббука станет сам призывающий.
Халида прокляли те, кого проклял он сам, наслав на них болезни. Про своё родовое проклятие он мог и не знать. Обо мне же всегда говорили, что я из про?клятого рода. Проклинали меня и ныне живущие. Но про?клятых среди них не было. Это я знал точно.
Было и ещё одно обстоятельство. Оказалось, что нельзя призывать демона по принуждению. Призывающий должен испытывать искреннее желание увидеть диббука.
Разыскать такого человека оказалось труднее всего. Про?клятых людей очень много. И дважды про?клятых среди них немало. Но вот найти того, кто добровольно согласился бы призвать исчадие ада, оказалось очень непросто.
Из-за поисков такого человека странствия мои затянулись. Находясь в непрестанной погоне за своей целью, я не мог заниматься лекарским делом, которым кормился. Средства мои иссякли, и я оказался на грани нищеты. Не раз в приступе отчаяния я думал: а не бросить ли всё и не осесть ли где-нибудь? Стал уже выбирать подходящий город. И тут мне повезло.
Будучи в Басре, я узнал о богаче по имени Харис. Говорили, что в своём доме он привечает людей, называющих себя колдунами и волшебниками. И будто бы у него к ним какое-то тайное дело, за которое он готов отдать всё, что попросят.
Думая, что речь идёт об очередном глупце, каких везде хватает, мечтающем узнать будущее или приворожить прекрасную деву, я решил подзаработать.
Явившись в дом к Харису и назвавшись волшебником, я попросил сказать, чем могу помочь. Тот не стал спешить с просьбой. Сначала он усадил меня за стол, угостил наилучшим образом и только после этого изложил свои обстоятельства.
Оказалось, что над родом Хариса столетиями довлеет проклятие за нечестивую услугу, которую его предок оказал царю по имени Искандер. Вдобавок он имел глупость поглумиться над неким нищим, за что тот его тоже проклял. Проклятие нищего было действительно ужасным. Он дал Харису страшное знание – назвал день его смерти. С тех пор Харис живёт в непрестанном ожидании того дня. Это ожидание отравило всю его жизнь. У него одно лишь желание – снять проклятие и отодвинуть назначенную кончину. Ради этого он готов на всё.
Выслушав эту историю, я сказал, что мне нужно подумать и попросил на размышления три дня. Выйдя от Хариса, я бросился наводить справки о том нищем. Знающие люди сказали мне, что действительно слышали то ли сказку, то ли быль о про?клятом человеке, разыскивающем некую монету, из-за которой его и прокляли. И, якобы, тот человек, имея вид нищего, бродит где-то в этих местах.
Я возликовал! Харис оказался как раз тем, кто мне нужен. Он дважды проклят и ради избавления от пожизненного страха согласится на что угодно.
Собрав всё необходимое для обряда, я явился к нему дом и, попросив удалить слуг, торжественно сообщил, что на нём проклятие проклятого, которое снять не может ни одни смертный. И только демон, которого он сам должен призвать, может в этом помочь. Я пообещал посодействовать в этом за такое-то количество денег. Сумма, которую я назвал, была умопомрачительной. Харис, не моргнув глазом, согласился, укрепив мою уверенность в успехе дела.
Я стал готовить необходимое для обряда.
У Халида на безлюдном острове не было всех необходимых ингредиентов. Потому его диббуки оказались слабыми и были побеждены демонами Мактума. Я же подготовился основательно, у меня было всё необходимое, а с одним ингредиентом мне помог сам Харис.
Выполнив все приготовления и объяснив Харису, что он должен делать, я удалился, чтобы не попасться на глаза диббуку.
Находясь в отдалении, я наблюдал, как дом Хариса вдруг весь затрясся, его окутала мгла, и оттуда повалил смрадный дым. А через некоторое время какое-то существо устрашающего вида, окутанное дымом, с громким хохотом взвившись в небо, исчезло среди чёрных туч.
Я вернулся в дом Хариса. Его я застал целым и невредимым. Он был даже не испуган, скорее, озадачен. Расплачиваясь со мной, он сказал, что диббук действительно пообещал ему снять проклятие. Но не сейчас, а когда восстановит силы, поедая людские души.
Цель моей жизни близка. Скоро диббук войдёт в силу, и зло в мире умножатся неимоверно. Перед его лицом все люди объединятся, и тогда на земле воцарится согласие.
– – –
Да, мой замысел удался, я это точно знаю.
С тех пор прошло много лет. Зло в мире растёт. Пороки перешли в ранг достоинств. Истина отдана на глумление толпы. Люди убивают друг друга, даже не трудясь придумывать предлоги. Суды судят не убийц, а их преследователей. Войны заканчивают не для установления мира, а для того, чтобы развязать руки для новых войн.
По всему видно – мой демон крепнет. Скоро он войдёт в силу, и зло в мире умножатся неимоверно. Перед его лицом все люди объединятся, и тогда на земле воцарится всеобщее согласие.
– – –
Один человек сказал мне: «Бездушное существо, диббук способен лишь творить зло. Он пленник своего предназначения. Но ты наделён душой, тебе дана свобода Познания. И ты, вершина Творения, привёл в наш мир исчадие ада! Зря ты рыскал по Вселенной в поисках абсолютного зла. Ибо ты и есть абсолютное зло!».
Тот человек был ко мне несправедлив.
Ведь я стремлюсь к добру!
Днепропетровск, 2011–2015.
← Латифа – арабск. нежная, добрая, дружелюбная
Чужая дочь
Село Каменка, в котором батальону майора Вальтера Геккеля предстояло расположиться на двухсуточный отдых, большей частью, состояло из мазанок, неказистых глинобитных домишек под соломенными крышами, разбросанных по невысоким холмам на обоих берегах речки с тем же названием. Каменные дома, числом не более десятка, находились в центре там, где был сельсовет, совхозная контора, магазин и баня.
Геккель приказал водителю остановить штабной «Вандерер» возле добротного кирпичного дома, который его адъютант Штауб, выбрал под штаб-квартиру. Приусадебный участок, на котором стоял дом, был огорожен дощатым забором. За ним был виден ухоженный огород и небольшой плодовый сад.
Геккель толкнул калитку, которая легко повернулась на смазанных петлях, и вошёл во двор. В тени раскидистой груши он увидел спину человека в чёрном мундире. Эсэсовец услышал шаги Геккеля только, когда тот подошёл вплотную. Он резко повернулся, его правая рука рефлекторно потянулась к кобуре. Увидев майора Вермахта, он встал по стойке «смирно», щёлкнул каблуками.
– Хайль Гитлер! Унтерштурмфюрер Зигель, оперативная команда специального батальона СД, – почти выкрикнул он, вскинув руку и устремив взгляд поверх головы майора. Ему было лет двадцать пять – двадцать семь. Он был блондином, почти альбиносом.
– Хайль! Майор Геккель, – в свою очередь представился Геккель, подняв правую руку. – Чем обязан? В этом доме моя штаб-квартира.
– Провожу работу по привлечению местного населения к выявлению жидо-коммунистических элементов, – доложил Зигель. Он небрежно показал на стоявших у стены дома мужчину; женщину, прижимавшую к своему животу ребёнка лет четырёх; и ещё двоих детей. – Этот здесь хозяин, колхозный активист. А эти рядом – его жена и дети.
– Активист – это как? Коммунист, что ли? – поинтересовался Геккель, чтобы поддержать разговор.
– Довгань, ты коммунист? – спросил Зигель у мужчины. Тот на мгновение оторвал взгляд от своих босых ступней и испуганно глянул на «Парабеллум» унтерштурмфюрера.
– Ты коммунист?! – повторил вопрос Зигель. – Коваленко, переведите ему!
Только сейчас майор заметил ещё трёх человек, стоявших чуть поодаль. Это были местные в гражданской одежде. У всех были немецкие винтовки, на рукавах белые повязки с надписью «Полиция». Двое, помоложе, откровенно пялились на широкие бёдра хозяйки дома. Который постарше, с готовностью подскочил к допрашиваемому и задал вопрос на их языке, ткнув пальцем в плечо. В ответ тот энергично замотал головой и, глядя на галифе Зигеля, стал что-то сбивчиво говорить.
– Он говорит, что не коммунист, ваше превосходительство, – помедлив, сообщил Коваленко на ломаном немецком. – Он говорит, сам пострадал от Советов. Те его силой загнали в колхоз, отобрали две коровы, лошадь, самого чуть в Сибирь не сослали. Он говорит, коммунистов ненавидит.
От Коваленко несло густым перегаром местного самодельного пойла. Оно называлось, кажется, «самогон». Геккель невольно отступил в сторону. Унтерштурмфюрер расценил это как разрешение действовать самостоятельно и продолжил допрос:
– Коваленко, скажите ему, что в таком случае он, как всякий сознательный украинец, обязан помогать немецким властям выявлять жидов и коммунистов.
Коваленко перевёл. Довгань неуверенно кивнул, по-прежнему глядя себе под ноги.
– В таком случае сейчас ты нам скажешь, где в твоём селе прячутся жиды, – продолжал Зигель. – Я назначу тебя старостой села, и ты тут будешь самым главным.
Выслушав Коваленко, который на этот раз переводил дольше обычного, Довгань побледнел. Помолчав, он что-то сказал нерешительно. Коваленко перевёл:
– Он говорит, ваше превосходительство, что все жиды мужчины ушли на фронт, а их бабы с детьми погнали колхозный скот на восток, и где сейчас кто, он не знает.
– Объясни ему, что немецкий офицер не красный комиссар, – криво ухмыльнувшись, сказал Зигель. – Обманывать его не надо. Комиссары взорвали плотину Днепрогэс, и все, кто не успел перейти Днепр, остались здесь. Если он откажется помогать, то я это расценю как попытку укрывательства жидов. А это тягчайшее преступление перед Рейхом. Я прикажу расстрелять и его, и всю его семью.
Коваленко перевёл. Услышав это, жена Довганя впервые подала голос. Она вскрикнула и ещё сильнее прижала к себе младшего ребёнка, сгорбившись над ним. Самый старший ребёнок бросился к ней и обхватил её руками, средний уткнулся лицом ей в бедро. Не подымая головы и искоса глядя на мужа из-под надвинутого на самые глаза платка, она что-то визгливо сказала. Он коротко огрызнулся через плечо. Затем что-то сказал Коваленко.
– Он говорит, ваше превосходительство, что, как началась война и ушли коммунисты, со двора не выходил и тех, о ком вы говорите, не видел, – перевёл Коваленко и добавил от себя. – Врёт, конечно. От тут всех знает.
Зигель достал белоснежный носовой платок и обтёр вспотевшее лицо. Потом спрятал платок, вытащил из кобуры «Парабеллум», передёрнул затвор и подчёркнуто спокойно сказал:
– Даю на размышление одну минуту. Потом я убью одного из его детей, ещё через минуту убью другого, ещё через минуту – третьего, ещё через минуту – его жену, ещё через минуту – его самого. Затем пойду к любому из его соседей, и тот сделает всё, что я требую. Есть ли смысл упорствовать?
Услышав перевод, жена Довганя оттолкнула от себя детей, которые дружно заревели, и, упав перед мужем на колени, стала креститься и громко причитать. Довгань, помолчав, что-то тихо сказал, не поднимая головы.
– Он говорит, что покажет всех, кого знает, ваше превосходительство, – сообщил Коваленко.
– Вот и хорошо, – удовлетворённо сказал Зигель, пряча пистолет в кобуру. – Пусть идёт с вами. Я только переговорю с господином майором.
Трое полицаев направились к выходу со двора, подталкивая Довганя. Зигель, проводив их взглядом, повернулся к Геккелю и сказал приятельским тоном:
– Эти русские иногда бывают страшно упрямыми.
– Насколько я знаю, это не русские, а украинцы, – ответил Геккель сухо, глядя на расстёгнутую верхнюю пуговицу мундира Зигеля.
– Какая разница как они себя называют? Всё равно скоро останутся только немцы. Я с удовольствием поселюсь где-нибудь здесь – тут неплохой климат.
Геккель молчал, по-прежнему глядя на расстёгнутую пуговицу Зигеля. Тот выпрямился и застегнул пуговицу.
– Господин майор, мне понадобится ваша помощь, – сказал он на этот раз официальным тоном, глядя на кокарду Геккеля. – Это касается задания, которое я тут выполняю. По решению еврейского вопроса. Вы знаете, о чём речь.
– Знаю, – коротко сказал Геккель.
– По моим данным в этом селе находятся восемьдесят две единицы еврейского населения. Завтра предстоит провести акцию по их ликвидации.
– Зачем вам я? – спросил Геккель.
– В моей команде половина – необстрелянные новички. Они только позавчера прибыли из Рейха. Я опасаюсь эксцессов во время акции.
– Что вы подразумеваете под словом «необстрелянные»? – спросил Геккель, не скрывая сарказма.
– Они ещё не участвовали в акциях, – Зигель оторвал взгляд от кокарды Геккеля и посмотрел ему в глаза. – Могут быть обмороки, истерики, отказы стрелять.
– Что вы хотите от меня, чёрт возьми? – спросил Геккель раздражённо.
– Я хочу, чтобы вы выделили роту ваших солдат для конвоирования колонны к месту акции и для самой акции, – Зигель смотрел в глаза Геккелю прямо, не мигая.
– Мои люди только что с передовой, – сказал Геккель, не отводя глаз. – Там они убивали противника, у которого в руках было оружие
– Объясните им, что мы делаем общее дело – уничтожаем врагов Рейха. Какая разница, где – на передовой или в тылу? – возразил Зигель, криво ухмыльнувшись.
– Вряд ли смогу выполнить вашу просьбу, – ответил Геккель, как мог спокойно. – Я обязан обеспечить отдых моим людям.
– Вы не задумывались, по какой причине в разгар боевых действий вам дали целых два дня отдыха? – Зигель продолжал ухмыляться. – И как раз в этом селе.
– Я не привык обсуждать распоряжения вышестоящего начальства, да ещё с посторонними, – ответил Геккель.
– Герр майор! – в голосе Зигеля появились истерические нотки. – Простите, но думаю, что ваш отказ не понравится обергруппенфюреру Екельну.
– Унтерштурмфюрер! Не забывайтесь! Я не подчиняюсь вашему Екельну. У меня своё командование, – ответил Геккель резко.
– Я доложу обергруппенфюреру, и через час ваше командование пришлёт вам нужный приказ, – сказал Зигель, буравя Геккеля взглядом. – А теперь рассудите, учитывая то, с какой неохотой генералы Вермахта отдают подобные приказы, чего будет стоить ваша непонятливость.
Геккель отвёл глаза. Помедлив, сказал:
– Чёрт с вами. Получите взвод. Но только для конвоирования. Стрелять они не будут. С вашими истеричками справляйтесь сами.
– – –
Григорий проснулся, словно от толчка. Глянул в окно – во дворе темно, ещё можно спать. Перевернулся на другой бок, полежал немного. Понял, что уже не уснёт. Сел на кровати, глянул на похрапывающую Катерину, немного посидел, чтобы успокоить сердцебиение. В последнее время это случалось всё чаще. Вроде тридцать семь лет – не старый ещё, а сердчишко уже даёт о себе знать. Может, чувствует, что нехорошее? Григорий вздохнул, поднялся с кровати и, шаркая босыми ногами по полу, вышел в большую комнату. Немного постоял, посмотрел на спящих детей. Двое старших спали в широкой двуспальной кровати, младший – в своей детской. Григорий послушал их дружное сонное сопение, тихонько открыл дверь и вышел во двор.
Небо было ясным, усеянным крупными немигающими звёздами. Северо-восток уже светлел – до рассвета ещё часа полтора. Григорий стал под яблоней, что росла возле сарая, и справил малую нужду. Спать не хотелось. Он присел на ступеньку крыльца и закурил.
Мысль в голове была одна: что будет дальше? Война перечеркнула налаженную жизнь. Нельзя сказать, что до неё Григорий был уверен в своём будущем, но, во всяком случае, была определённость. В их совхозе он был не последним человеком. Счетовод – какое-никакое, а всё-таки начальство. Совхозные бумаги, которые он вёл, всегда были в порядке. В районе был на хорошем счету, его почётными грамотами награждали. И не только грамоты он имел. Его хлопцы живут, как люди, в тепле и сухости. От мысли о детях на душе потеплело – трое детей, трое пацанов, вырастут – помощниками будут. И тут же вернулась тревога: если вырастут. Иди знай, чего от завтрашнего дня ожидать...
В его жизни было много такого, от чего можно было болезнь сердечную заиметь. По всему, сейчас он должен не сидеть здесь, на крыльце своего дома, а в сибирской земле червей кормить. Батька его был далеко не бедняком. Хоть и в мазанке жил, но скотину свою имел: коров, лошадей, овец отару. Да и жито своё было, где вырастить – пятая часть нынешних совхозных полей когда-то одному Панасу Довганю принадлежала. В гражданскую дядька Панас ни к кому не примкнул, особняком держался, старался ни с кем не ссориться. Дорого это ему давалось – то от одних откупаться приходилось, то с другими договариваться. Но ничего, выстоял. Гришку своего учил: не лезь в чужую драку, пусть дураки помирают, твоё дело – выжить, кто бы там верх ни взял. Не ссорься никогда ни с кем, тем более с властями. С любыми властями. Будь на хорошем счету. Просят – делай, требуют – отдавай. Сегодня отдашь на копейку – завтра поимеешь на червонец. Всегда главное одно – выживать. Были бы кости, мясо нарастёт.
Эта наука самому батьке помогла мало. Договариваться в гражданскую с белыми, зелёными, махновцами было трудно, но возможно – те не считали крестьянина классовым врагом. Война закончилась, в село из губернии стали наведываться комиссары. И Панас Довгань понял, что родная украинская земля уходит из-под ног. Бо?льшую часть земли у него отобрали и раздали сельским беднякам. Скотину он порезал сам. Когда в двадцать девятом докатились вести, что будут насильно загонять в колхоз, Панас собрал вещи и отправился в Луганск работать на шахту. Перед отъездом сказал сыну:
– Впереди трудные времена. Красные таких, как я, врагами считают. Крестьянство вскоре помрёт. Будет голод. Если сидеть и ждать, подохнем все. Я поеду в город, говорят, там работа есть. Как устроюсь, буду оттуда вам помогать. Ты останешься здесь за матерью и сестрой присматривать. Если будут в колхоз гнать, не упирайся, иди. Иди первым, пусть за своего считают. Так, может, и выживем. Что поделаешь…
Батька уехал. Вскоре в селе появилась комиссия из губернии. Согнали всех на митинг, объявили, что в селе создаётся колхоз и все должны в него вступить. А кто не вступит – враг народа. Гриша вернулся домой, под плач матери вывел последнюю корову и отвёл её в колхозное стадо.
Началась колхозная жизнь. Жили бедно, но не голодали. Отец приезжал редко, привозил не деньги – в колхозе их потратить было не на что – привозил какую-никакую одежду, обувь, да гостинцы городские. Сам он сгорбился, стал меньше ростом, будто ссохся. Лицо было всё в несмываемых чёрных точках от угольной пыли. Он говорил Грише:
– Надо тебе в город ехать, учиться. Сейчас образованным дорога открыта. Особенно тем, которые ближе к деньгам – бухгалтерам, счетоводам. Без образования сгниёшь в этом колхозе поганом. Вот выдашь сестру замуж, и уезжай.
Но уехать пришлось раньше. Примерно через месяц после того разговора поздно вечером Григория вызвали в правление колхоза. Там сидели два военных с малиновыми петлицами. Они стали задавать вопросы об отце. Чем тот занимается в Луганске, какие разговоры вёл, какие имена-фамилии называл. И ещё много всякого. Григорий отвечал. Те двое его ответы записали, сели в легковушку и уехали. Как уехали, председатель колхоза завёл его к себе в кабинет, запер дверь и сказал, что отец его арестован как враг народа. Что он планировал взорвать в Луганске шахту, а потом поехать в Москву и там убить товарища Сталина. И что отца его расстреляют, это уже ясно, а потом его самого и мать с сестрой сошлют в Сибирь как членов семьи врага народа. У него есть только один способ спасти себя. Товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает. Надо, чтобы он, Григорий, выступил на собрании колхозников, где будут его отца обсуждать.
Назавтра на собрании, когда ему дали слово, Григорий сказал, что его отец вёл антисоветские разговоры и вынашивал планы диверсии против Советской власти, он, Григорий, его осуждает и от него отрекается, и он не сообщил в органы, потому что не успел, те проявили революционную бдительность и сработали быстрее. Он говорил в гробовой тишине. Не дождавшись окончания собрания, взял заранее приготовленный узелок с вещами и ушёл из села.
В городе он поступил в техникум, чтобы учиться на счетовода. Каждый вечер, когда ложился спать в общежитии, прислушивался, не едет ли по улице «чёрный ворон». За всё время, что он учился, домой не наведался ни разу – боялся, что кто-то из односельчан покажет пальцем и скажет: «Враг!». Когда окончил техникум, понял, что с работой будет непросто. Везде надо было писать автобиографию, отвечать на всякие вопросы. Напишешь, что отец расстрелян, – на работу не возьмут. Не напишешь – ещё хуже, привлекут за сокрытие сведений.
Григорий решил вернуться домой – может, в своём селе будет попроще. Действительно, там оказалось проще. Его забыли. Много односельчан умерло от голода в тридцать втором – тридцать третьем годах. Умерли и его мать с сестрой. Их похоронили чужие люди. Григорий поселился в разворованной батьковой мазанке. Работать устроился счетоводом в совхоз, который образовали из их колхоза и ещё двух соседних. При устройстве на работу вопросов не задавали. Может, кто что о нём и помнил, но людей не осталось, работать было некому.
Через год Григорий женился. Жену взял из соседнего села. Катерина красотой не отличалась, была молчаливой, но хозяйкой оказалась хорошей. Через год родила ему сына.
Советские начальники были такими же людьми, как и другие. Днём произносили трескучие фразы, а по вечерам любили выпить, поесть, девок пощупать. Главное – хотели всё иметь, да ни за что не платить. Договариваться с ними оказалось просто – говори, что надо, делай, что просят. Вот Петя Корниенко, их директор, дочку выдал замуж в соседний район, дом там ей построил. А где стройматериалы брал? С совхозной свинофермы. Счетовод Гриша Довгань всё как надо оформил – никакая ревизия не придерётся. Гриша это умеет. Не умел бы – до сих пор бы жил в батьковой мазанке. А так, и себе дом выстроил. Не дворец, конечно, чтоб в глаза не бросался, но все-таки кирпичный.
И вот всё рухнуло. Началась война. Григорий через знакомого врача справку себе сделал, что не пригоден к службе, его на фронт не взяли. Красные, как пришли двадцать лет назад, так и ушли. Вместо них пришли немцы и объявили «новый порядок». А какой он этот «новый порядок»? Как с ними себя вести? А если красные вернутся, что будет? Было от чего сердцу разболеться…
Григорий затушил окурок о ступеньку, бросил его в мусорное ведро у крыльца, встал, постоял, посмотрел на разгорающуюся зарю и отправился в дом спать.
Он заснул, едва голова коснулась подушки. Казалось, что спал всего минуту. Проснулся от топота сапог и визга Катерины.
– Здорово, Довгань! – у кровати стоял мужик с белой повязкой на рукаве. – Вставай! Принимай гостей!
Григорий выскочил во двор. Там уже была Катерина и все три его хлопца. Перед ними стоял немец в чёрном мундире и разглядывал их словно животных. Немец был молодым, белобрысым. Григорий таких бесцветных ещё не видел. Рядом переминались с ноги на ногу ещё двое в гражданской одежде с винтовками. Тут Григорий вспомнил, где видел мужика, что его разбудил. Тот работал шофёром в райкоме, возил самого первого секретаря. Фамилии его Григорий не знал. Да и никто не знал. Он был просто Вася. Шестерил на начальство: «Вася туда! Вася сюда!». Вечно бегал на полусогнутых, глаз не поднимал. А сейчас, гляди-ка, орлом смотрит!
– Вы чего это в моём доме?.. – начал было Григорий, спросонья не разобравшись в ситуации. И тут же получил затрещину.
– Ты как с господином унтерштурмфюрером разговариваешь?! – прошипел Вася и съездил ему по зубам ещё раз. – Стой молча, смотри в землю и на вопросы отвечай. А не то шлёпнем тебя и бабу твою, и сопляков твоих!
Услышав это, Катерина вскрикнула и прижала к себе младшего. Григорий прикусил язык и уставился в землю.
– Так-то! А теперь на вопросы отвечай, которые господин унтерштрумфюрер задавать будет.
Но вопросов не последовало. Григорий услышал шаги на дорожке от калитки. Быстро глянул: пришёл ещё один немец, постарше первого. На нём был серо-зелёный мундир. Первый, похоже, не ожидал его увидеть, он вздрогнул и резко обернулся, потянувшись к кобуре. Немцы приветствовали друг друга, подняв правые руки, и о чём-то коротко переговорили. Первый при этом небрежно махнул рукой в его, Григория сторону. Второй немец окинул его внимательным, цепким взглядом и что-то спросил у первого. Тот повернулся к Григорию и задал ему какой-то вопрос по-своему. Григорий вопроса он не понял, хоть когда-то учил немецкий, и потому промолчал. Немец повторил вопрос – там, вроде, было слово «коммунист». Григорий на всякий случай опять промолчал. Тогда к нему подскочил Вася и, ткнув пальцем в плечо, сказал:
– Их превосходительство спрашивают: ты коммунист?
У Григория задрожали ноги. Он слышал, что немцы коммунистов расстреливают. А он в конце мая написал заявление в партию, его должны были рассматривать как раз двадцать третьего июня, в понедельник. Партсобрание не состоялось потому, что война началась. Вася об этом может знать. То-то он смотрит как-то уж слишком пристально. Григорий замотал головой и, глядя на галифе первого немца, стал говорить:
– Нет-нет, я не коммунист! Я коммунистов ненавижу! Они меня силой в колхоз загнали, отобрали две коровы, лошадь, самого чуть в Сибирь не сослали. Я от Советской власти пострадал!
Пока он говорил, Вася смотрел на него ехидно. Перевести не торопился, всё смотрел молча. Потом всё-таки перевёл. За те несколько мгновений, что Вася медлил с переводом, Григорий пережил столько, сколько не переживал за годы.
Немец, кажется, остался доволен услышанным. Он что-то сказал Григорию. Вася перевёл:
– Господин унтерштрумфюрер считает тебя сознательным украинцем. Он хочет, чтобы ты помог ему понаходить всех жидов, которые сейчас в селе прячутся. Так ты ему поможешь?
Григорий, не зная, что делать, кивнул. Немец продолжал говорить. Вася, внимательно его выслушав, сказал Григорию:
– Понимаешь, Довгань, их фюрер мужик дельный – сильно не любит жидов. Вот и решил он эту пархатую заразу по всему миру изничтожить, чтобы не могли они больше кровь христианскую пить. Немцы, где жидов находят, там и убивают. В твоём селе, Довгань, пархатых много. Попрятались суки – знают, что их ждёт. И ты их нам покажешь. Всех. За это господин унтерштрумфюрер назначит тебя старостой села. Будешь тут самым главным, что-то вроде председателя сельсовета.
Григорий помертвел. Такого поворота он не ожидал. Евреев в селе было, действительно, много, примерно четверть населения. В других сёлах их было ещё больше. Соседние совхозы вообще были еврейскими, и даже назывались по-еврейски. Жили евреи мирно, работали хорошо. Вражды с украинцами не было – делить было нечего, все жили одинаково бедно. Жаркой дружбы, впрочем, не было тоже. В глаза им говорили «евреи», за глаза вполголоса – «жиды». Те тоже были себе на уме – чуть что переходили на свой язык, чтоб непонятно было, о чём говорят. Советские праздники – Первое мая, Седьмое ноября – отмечали все вместе, вместе гуляли, вместе пили. А вот настоящие праздники, народные – по-отдельности и втихаря. Сначала евреи свою пасху праздновали, потом христиане – свою, проклиная тех, кто Христа распял. Молодёжь, кто при Советах вырос, та вообще различий не знала: кто украинец, кто русский, а кто еврей. Старший сын Григория уже в школу ходил, так он даже по-ихнему знал немного – в его классе этих еврейчиков больше половины было. А вот взрослые эти различия хорошо понимали. Они были уверены, что, если обещанное «светлое будущее» когда-нибудь наступит, евреи там окажутся первыми, хотя бы потому, что сами его и придумали.
Григорий хорошо знал своих односельчан, – многие считали, что если бы евреев тут не было, было бы лучше. Но к такому повороту, чтобы взять и разом всех их уничтожить, он не был готов. Всё-таки в одном селе всю жизнь вместе прожили. Да и другое – а вдруг коммунисты вернутся? У тех евреи вроде бы как в почёте были. Многие их начальники евреи. Вот даже первый секретарь обкома, и тот еврей. Народ шёпотом говорил, что и сам Ленин из них произошёл.
Григорий сказал:
– Так нет же никого. Мужики ихние на фронт поуходили, а бабы с детишками ушли со стадом, когда его в тыл погнали.
Выслушав перевод, немец, что-то сказал, криво ухмыльнувшись. Второй, тот что в зелёном мундире, стоял с безучастным видом и в разговор не вмешивался.
– А их превосходительство говорят, что ты, сука, брешешь, – прошипел Вася. – Комиссары Днепрогэс взорвали, чтобы уйти они не могли и у немцев остались. Так что, красные сами жидов приговорили. Их начальнички-то знают, что немцы с ними сделают. А у немцев укрывательство жидов серьёзное преступление, они за это расстреливают. Хочешь, чтобы господин унтерштрумфюрер тебя прямо сейчас шлёпнул? И твой выводок тоже?
При этих словах Катерина, которой до того не было слышно, ойкнула, и сказала Григорию:
– Гриша! Не спорь с ними! Делай, что говорят!
– Катька, заткнись! – огрызнулся Григорий. Сказал Васе: – Так может и взорвали Днепрогэс, я про то не знаю. Только как уходили – видел. А возвращались или нет – мне неизвестно. Я с тех пор со двора не выходил.
Немец, слушая перевод, вытер потное лицо, спрятал платок, достал из кобуры пистолет и передёрнул затвор. Он что-то сказал, глядя не на Григория, а куда-то поверх его головы. Второй немец непроизвольно отступил на полшага и стал смотреть в сторону. Вася тоже слегка попятился, опасливо покосившись сначала на немца с пистолетом, потом на Григория. Изменившимся голосом он сказал:
– Дурак ты Довгань, допрыгался! Он сказал, что сейчас тебя убивать будет. Сначала щенков твоих, потом бабу, а потом тебя. Соглашайся бегом! Он тебе всего минуту дал, чтобы ты умом пораскинул!
Тут Катерина, от которой Григорий за всю жизнь слова громкого не слышал, оттолкнула от себя детей, бросилась перед ним на колени и закричала истошным голосом:
– Гриша! Гришенька! Муками христовыми тебя заклинаю! Гришенька! Именем твоей матери! Это ж дети твои! Гриша! Делай, что они тебе говорят! На меня тебе наплевать, пусть меня прибьют, я плохая тебе жена! Но дети! Я ж их нарожала тебе! Не погуби сынков своих!
Григорий почувствовал, что сердце сейчас остановится. В глазах стало темно, горло будто железная рука сдавила. Он явственно представил, что его сыновья лежат на земле в луже крови как зарезанные поросята. Не слыша своего голоса, он сказал:
– Хорошо, я покажу… кого знаю… Только детей не трогайте…
– – –
Кузнечик шевелил усиками, как бы раздумывая куда бы ему прыгнуть. Подобрал под себя длинные задние ноги, замер, напрягся, казалось, сейчас прыгнет, но нет, передумал и спокойно переполз с травинки на сапог Вальтера Геккеля. Вальтер не шевелился, чтобы не спугнуть насекомое. Кузнечик ещё немного подумал и вдруг без долгих сборов подпрыгнул вверх и, расправив крылья, полетел. Вальтер проводил его взглядом, пытаясь разглядеть, куда тот сядет.
Кузнечик сел на голову еврейки, стоявшей шагах в пяти. Она его не заметила, даже не шелохнулась. Кузнечик переполз с накинутого кое-как платка на волосы, на лоб, сорвался, упал, в падении раскрыл крылья и полетел в сторону восходящего солнца. Женщина ничего не заметила. Она стояла прямо, безвольно опустив руки, и смотрела перед собой на что-то, видимое только ей одной. Большие тёмно-карие глаза были неподвижны. В них не было слёз, страха, отчаяния, как в глазах других евреев, которые сидели, стояли или ходили из стороны в сторону внутри кольца оцепления. Это не был взгляд оцепеневшего от ужаса человека, эти глаза жили, в них была мысль.
На что она смотрит? Какие картины прошедшей жизни видит? Или это уже картины её такого скорого потустороннего существования? Что она видит, о чём думает сейчас, за полчаса до расстрела?
Вальтер смотрел на неё, не в силах отвести взгляд. Женщина стояла абсолютно неподвижно и просто смотрела перед собой. Лёгкий утренний ветерок шевелил пряди её волос, выбившиеся из-под платка. Вальтер подумал, что эти длинные пушистые волосы она, наверное, любила расчёсывать перед сном. Подумал, что когда-то их расчёсывал её муж. И как им обоим было приятно заниматься любовью, укрывшись её распущенными волосами.
Женщина не двигалась, ни на что не реагировала. Ни на нервозную перебранку полицаев, ни на команды эсэсовцев, ни на плач и стоны её соплеменников, ни даже на собственную полуторагодовалую дочь, которая, играя, теребила подол её платья. Когда полицай толкнул её в спину, загоняя в колонну, она машинально взяла ребёнка на руки и пошла вместе с остальными, по-прежнему глядя в пространство, видимое только ей одной.
Зигель выбрал место для акции примерно в километре от окраины села, где за еврейским кладбищем был неглубокий овраг. Накануне полицаи согнали туда десяток сельских мужиков с лопатами, которые к утру углубили овраг, выкопав яму достаточно большую, чтобы в ней поместились все восемьдесят два каменских еврея. Мужиков домой не отпустили – им предстояло эту яму зарывать.
От центра села до этого места колонна, подгоняемая эсэсовцами и полицаями, дошла минут за двадцать. Люди шли по четыре в ряд, неся свои пожитки, детей, поддерживая под руки стариков. Впереди шёл Коваленко, постоянно озираясь и покрикивая на своих полицаев. Те суетились, подгоняя отстающих. По периметру колонны с автоматами наперевес шагали солдаты Вальтера. Сам он шёл позади всех – и колонны, и Зигеля с его оперативной командой. Присутствовать при акции он не был обязан и мог остаться в штабе. Но он считал своим долгом быть вместе со своими солдатами.
Когда колонна подошла к оврагу, люди увидели кучи свежевырытой земли, почувствовали её запах. Вдруг закричали и заплакали женщины. Колонна остановилась, не дойдя до места метров тридцать. У некоторых подкосились ноги, и они больше не могли идти.
– Коваленко! – скомандовал Зигель, – Прикажите им всем раздеться полностью. Одежду и все свои вещи пусть складывают каждый в свою стопку. Складывать надо аккуратно. Проследите!
Коваленко побежал выполнять приказ. Люди сначала смотрели на него непонимающе. Потом начали раздеваться. Полицаи и эсэсовцы ходили в толпе приговорённых, следя, чтобы те аккуратно складывали свои вещи. Вальтер подумал: как странно – большинство из них женщины, они не проявляют стыдливости. Они раздевались, не торопясь, тщательно складывая одежду, которую уже никогда не наденут, разглаживая её руками, как бы прощаясь.
Зигель выстроил десять своих эсэсовцев в одну шеренгу напротив края оврага над вырытой ямой. Шагах в двадцати левее, опираясь на лопаты, стояли каменские мужики, глядя на происходящее кто со страхом, кто с любопытством, кто с показным безразличием. Между шеренгой эсэсовцев и приговорёнными кучковались Коваленко и его полицаи, среди которых был и Довгань. У него не было ни оружия, ни повязки на рукаве.
– Коваленко! Давайте первый десяток! – скомандовал Зигель.
Коваленко что-то крикнул полицаям. Те подошли к толпе и, по двое схватив за руки тех, кто стоял с краю, потащили их к яме. Вместе с ними людей тащили несколько немцев из команды Зигеля. Довгань замешкался, не зная, что ему делать, остался стоять. Коваленко подошёл к нему, что-то сказал, показав на яму, и несильно ударил кулаком в зубы. Тот пару мгновений смотрел ему в глаза, затем отвернулся, неуверенной походкой подошёл к толпе и, схватив за руку ту самую еврейку с красивыми волосами, потащил её к яме. Инстинктивно она сделала попытку вырваться. Довгань другой рукой схватил её за волосы и, изо всех сил потянул за собой. Она, потеряв равновесие, споткнулась и упала на колени. Довгань, не останавливаясь, волок её по земле. Её дочка закричала и попыталась схватиться за маму. Единственное, за что она могла ухватиться, были длинные мамины волосы. Вцепившись в них ручонками, она упала и попала Довганю под ноги. Тот пнул её, она, словно мяч, отлетела в большой куст и там затихла. Довгань дотащил свою жертву до края оврага туда, где лицом к яме уже стояли остальные. Она оглянулась, пытаясь рассмотреть, куда делась её дочь. Один из эсэсовцев ударил её ногой в лицо, повернув его к яме.
Полицаи и эсэсовцы, которые тащили людей, отошли в сторону, оставив своих жертв одних. Довгань опять замешкался. Один из полицаев вернулся и, схватив его за шиворот, потащил за собой прочь от ямы.
– Заряжай! Целься! – командовал Зигель.
Эсэсовцы в шеренге передёрнули затворы автоматов и прицелились в стоящих на краю оврага. Те всё поняли. Некоторые инстинктивно вобрали головы в плечи, одна пожилая женщина со вздохом тяжело осела на землю, кого-то била крупная дрожь.
На несколько мгновений над местом действия повисла тишина. Стало слышно, как в траве стрекотали кузнечики, в небе пел жаворонок. В толпе евреев раздавались приглушённые рыдания.
– Огонь!
Вальтер видел, как убивают людей. Ему и самому приходилось. Но на расстреле присутствовал впервые. Он думал, существует какая-то церемония, – кто-то произносит речь, говорит, почему этих людей необходимо убить, приговорённым завязывают глаза и стреляют издалека, чтоб стрелки близко не видели их лиц. Всё оказалось намного циничнее. Буднично, по-деловому, безо всяких церемоний обнажённых людей поставили на край их собственной могилы. За их спинами всего в трёх шагах стояли палачи. Стреляли каждый в свою «мишень», кто в голову, кто в спину. Те, кому выстрелили в голову, упали сразу как кучи тряпья. Другие ещё какое-то мгновение стояли, потом медленно, как бы нехотя, оседая, сваливались в яму. Та женщина, с красивыми волосами, осталась стоять на коленях.
– Рядовой, ко мне! – крикнул Зигель солдату, стоявшему в шеренге с краю.
Тот повернулся кругом и на подгибающихся ногах подошёл к Зигелю. Ему было под сорок. Его лицо было мертвенно бледным.
– Рядовой Хайнц Ленце! – доложил он осипшим голосом. Его губы тряслись, из носа текло.
– Почему вы не стреляли?! – спросил Зигель.
Солдат молчал.
– Повторяю вопрос, почему вы не стреляли! – Зигель, не мигая, смотрел ему в глаза.
Женщина, по-прежнему стоя на коленях, пыталась обернуться, ища глазами свою дочь.
– Я не могу… Это же женщины… дети… Мне не говорили… – пролепетал солдат.
– Откуда вас прислали? – спросил Зигель.
– Из Потсдама.
– Кем вы там были.
– Я простой полицейский. В уголовной полиции работал… Я не знал… Мне не говорили…
– Что вам не говорили? Что вас отправляют для особо важной работы, связанной с государственной безопасностью?
– Я думал… партизаны… диверсанты… Но это женщины и дети!.. Как можно?! Это же смертный грех! Господь накажет!
– Ленце, возьмите себя в руки! Идите и выполните свой долг!
Солдат повернулся было, чтобы идти назад к яме, но передумал и, став по стойке «смирно», решительно глядя Зигелю в глаза, срывающимся голосом сказал:
– Господин унтер… унтерштрумфюрер! Извините… я католик… верующий человек… всю жизнь ходил в церковь… Я не могу делать то, что считается смертным грехом. Я отказываюсь! Готов к любому наказанию!
Он стоял по стойке «смирно», слегка пошатываясь. Его лицо, которое только что было бледным, стало пунцово-красным. Зигель смотрел на него, презрительно искривив губы. Его правый кулак непроизвольно сжимался и разжимался.
– Коваленко! Давайте сюда этого Довганя! – скомандовал он, не отрывая взгляда от солдата.
Коваленко что-то крикнул Довганю и тот подошёл к Зигелю.
– Ленце, дайте своё оружие, – Зигель отобрал у солдата автомат и протянул его Довганю. – Идите и доделайте работу! Коваленко, переведите.
Довгань нерешительно взял из рук Зигеля автомат и вопросительно посмотрел на Коваленко. Тот ему показал на женщину. Довгань посмотрел на неё, вздрогнул и отрицательно замотал головой. Коваленко что-то крикнул ему, показывая теперь не на женщину, а на яму. Затем ударил его в зубы и подтолкнул к яме. Довгань опустил голову и пошёл туда, куда его вёл Коваленко.
Они вдвоём подошли к женщине. Коваленко что-то говорил Довганю, очевидно указывая, что тот должен делать. Тот поднял автомат, направив ствол женщине в затылок, и, зажмурившись, нажал на спуск. Прозвучал щелчок. Выстрела не было. Женщина вздрогнула и вобрала голову в плечи. Коваленко выругался, взял автомат, передёрнул затвор и вернул автомат Довганю. Тот опять, направив его женщине в голову, нажал на спуск. Грохнула короткая очередь. Из лица женщины вылетел кровавый фонтан. Её тело дёрнулось вперёд и свалилось в яму. Довгань продолжал стоять с поднятым автоматом, глядя расширившимися глазами как кровь заливает прекрасные волосы женщины, струёй вытекая из того, что только что было её головой.
– – –
Григорий вернулся домой, когда было уже темно. Издали увидел немецкий мотоцикл, стоящий у калитки. Повернул назад, прошёл немного и свернул на склон берега речки, на который выходили огороды домов, что на его улице. По склону он прокрался к своему забору, осторожно открыв заднюю калитку, зашёл в сад, спрятался за стволом старой яблони и осмотрелся. В доме светились окна, оттуда доносилась немецкая речь. На ступеньках крыльца сидел немецкий офицер, который вчера пришёл вторым, и курил. Ни Катерины, ни детей видно не было. Сердце Григория сжалось.
Немец докурил, затушил окурок о ступеньку, бросил его в мусорное ведро у крыльца, с трудом поднялся и, пошатываясь, зашёл в дом.
– Катька! Катерина! – тихо позвал Григорий. Откуда-то из-за кустов смородины донёсся шорох.
– Папка, ты? – это был голос старшего сына.
– Я, Шурка, я, – громким шёпотом сказал Григорий. – Иди сюда, я тут.
На фоне неба мелькнул силуэт и через секунду Шурка был рядом с отцом. Обняв сына, тот спросил:
– Что там у вас? Мать жива?
– Да все живы, и мать, братаны! Ты-то где был?
– То неважно… А где вы все?
– Мы в сарае. Немец сказал, что в нашей хате ихний штаб будет. Так чтоб мы в сарае теперь жили. Вот мы все там и сидим. Мамка запретила во двор выходить. Это я по нужде вышел.
– Так, сына! А ну бегом сгоняй мамку сюда позови. Только тихо, чтоб немцы не услышали. А сам в сарае оставайся. Понял?
– Понял, папка, понял. Сейчас позову.
Через минуту Григорий услышал шаги Катерины. Когда она поравнялась с яблоней, взял её за руку. Она вскрикнула. Он зажал ей рот и прошептал на ухо:
– Катька, иди за мной, только тихо. Чтоб я ни одного звука от тебя не слышал!
Он увлёк её за собой на самый берег речки, туда, где их никто не мог услышать. В ясном небе ещё не погасла вечерняя заря, висел молодой месяц. Катерина хорошо видела осунувшееся лицо мужа и его глаза, смотревшие, как у животного, которого ведут на убой.
– Гришенька, что с тобой? Где ты был целый день? Ты пьяный? – спросила она испуганно.
– Тихо, дура! – зашипел на неё Григорий, опять зажав ей рот рукой. – Не пьяный я. Где был – тебе потом люди расскажут. Гляди сюда.
Он присел на корточки и жестом показал, чтобы Катерина присела рядом. Затем бережно достал из-за пазухи большой тряпичный свёрток, положил его на землю и аккуратно развернул. При свете месяца было видно, что на земле на старой тряпке лежит ребёнок.
– Господи! Так то ж дитя! – вскрикнула Катерина.
– Да заткнись ты, дура! – прорычал Григорий и отвесил жене затрещину. – Чего орёшь? Хочешь, чтоб немцы услышали?
Катерина, зажав рот двумя руками, осела на землю, не сводя глаз с ребёнка, который двигал ручками и тихо хныкал.
– Чьё ж оно? Где ты его взял? Зачем домой принёс? Своих мало? – затараторила она шёпотом.
– Ну, в общем, так, – собравшись с духом, произнёс Григорий. – Это дочка Фиры Розенблюм. Её, кажется, Белой зовут. Мужа её, Натана помнишь? Он у нас в кузнице работал.
– Гришенька, ты совсем сказился? Ты зачем жидовку в дом принёс? Немцы ж её найдут – всех нас порешат. Меня тебе не жалко, о детях о своих подумай! Гришенька, неси её назад, где взял. Не хочешь, я сама отнесу! Скажи, где ты её взял, Гришенька? Я сейчас туда сбегаю и отнесу. Гришенька, я быстро – никто не заметит… – Катерина осеклась на полуслове, увидев дикий взгляд мужа.
Григорий привстал, склонился над женой, протянул к её лицу свои руки, вымазанные в земле, и чётко с расстановкой произнёс:
– Я сегодня её мать убил. Вот этим руками.
Из его горла вырвался хрип.
– Гриша! Ты был ТАМ?! – воскликнула Катерина, прижав руки ко рту.
– Катька, не спрашивай! – прохрипел Григорий, перевёл взгляд на свои руки и несколько мгновений их рассматривал, как будто видел впервые.
– Такие дела, Катька, – сказал он, погодя, – Мы с тобой её спрячем.
– Нет!!! Гриша, нет!!! – чуть не закричала во весь голос Катерина в ужасе. – Кого ты спасать собрался? Жидовку?! Мало мы натерпелись, так теперь из-за неё немцы твоих детей поубивают! Нет!
Григорий изменился в лице. Едва Катерина закончила говорить, он сильно ударил её ладонью по лицу. Затем навалился на неё упавшую и, сжав руками её горло, прорычал:
– Хватит, курва, мне про детей рассказывать! Ты знаешь, сколько детей сегодня поубивали, как собак? А у них тоже матери были! Ты когда-нибудь видела, как детей убивают?
Он опомнился только, когда почувствовал, что жена начинает задыхаться. Сел на землю, обхватив голову руками. Катерина тоже села, её пробирал кашель. Откашлявшись, она убрала с лица жиденькие волосёнки, выбившиеся из-под платка, и принялась с опаской рассматривать ребёнка.
– Гриша, а чего она квёлая такая? Может, больная? – спросила она виноватым тоном.
– Зашиб я её сильно, – Григорий тёр лицо руками, пытаясь прийти в себя. – Не в себе был… Но, ничего, очухается… Они, жиды, выносливые – всегда выживают, чего им не делай… В общем, так, Катерина, тащи её в сарай к хлопцам, одежонку найди какую. Немцы вынюхают – скажем, что дочь наша. А не показывалась раньше потому, что больная сильно, всё время лежит.
– Гришенька, но она ж чернявая, она ж на наших хлопцев совсем не похожа. Да и на нас с тобой!
– Так постриги её налысо, платок какой напяль! А глаза чёрные – так у меня бабка татаркой была.
Подумав, он добавил:
– Звать её – Верка.
– – –
Вальтер очнулся ото сна весь в поту. В голове стучало, во рту – будто дерьмо жевал. Весь вчерашний день сразу же предстал перед глазами, как наяву. Он всё вспомнил, будто это произошло минуту назад. Он вспомнил свою дурацкую речь перед третьим взводом; глаза его солдат, глядящих мимо него; колонну несчастных, бредущих навстречу гибели; роскошные чёрные волосы женщины; этого скота Довганя, вцепившегося в них; ребёнка, который вылетел из-под его ноги. И самое невыносимое – фонтаны крови, вылетающие из обнажённых людей, и тела, из которых ещё не ушла жизнь, падающие и падающие в эту чёрную бездонную яму.
Вальтер перевернулся на живот и засунул голову под подушку, зажав ею уши.
Забыть! Забыть! Забыть всё и немедленно!
Вчера он весь вечер пил. Пил с этим бесцветным мерзавцем Зигелем. Сначала они выпили весь шнапс Зигеля. Потом прикончили его, Вальтера, запасы коньяка, которые он берёг ещё с Франции. Потом Зигель послал куда-то Коваленко, тот притащил большую банку с мутной жидкостью. Это был местный «самогон». После первого же стакана Вальтер понял, что сейчас отключится. Ему хватило сил самому дойти до постели.
Забыть! Забыть! Забыть!
Впустую. Чем больше он повторяет это заклинание, тем яснее видит картины вчерашнего дня.
Он – профессиональный военный! Он шёл на войну, чётко сознавая – это его долг. Его родина воюет – он должен быть с ней. Он должен воевать с вооружёнными врагами Германии. Он должен выполнять приказы боевого командования и отдавать приказы как боевой командир. Чей приказ он выполнил вчера? Зигеля!
Он заставил себя встать с кровати, умыться, побриться и выпить кофе, приготовленный Штаубом.
Собрал офицеров батальона, выслушал рапорта и отдал распоряжения – после полудня надо было выдвигаться ближе к линии фронта. Потом занялся штабной рутиной: карты, документация, хозяйственные вопросы, проблемы личного состава.
Работа помогла, отвлекла. Постепенно стало возвращаться привычное мироощущение.
Вальтер вдруг сообразил, что почти сутки ничего не ел. Приказал Штаубу накрыть на стол. Сел за поздний завтрак у открытого окна. Как ни странно, но ел он с удовольствием. После еды с чашкой кофе вышел на крыльцо.
Уже допив кофе, он вдруг понял, – что-то изменилось. Его тренированное ухо уловило новый звук. Он привык прислушиваться к окружающей обстановке. Изменение звуковой картины в бою заранее предупреждало об опасности. Собственно, сам звук был обычным – плакал ребёнок. Просто раньше Вальтер его не слышал.
Ребёнок плакал недалеко, тихо и жалобно, как плачут маленькие дети, когда у них что-то болит. Вальтер попросил Штауба выяснить, что это за ребёнок. Тот поискал во дворе и зашёл в сарай, куда выселили Довганя с его семьёй. Через минуту он вышел, подталкивая перед собой жену Довганя, на руках у которой был маленький ребёнок.
Вальтеру стало любопытно – вчера у Довганя было трое детей, сегодня появился четвёртый. Он спустился с крыльца и подошёл к женщине. Ребёнку было года полтора. Как понял Вальтер, это была девочка. Она была одета в какие-то тряпки явно не по росту, голова замотана в грубый шерстяной платок, какой здесь носят старухи. Вальтер жестами потребовал, чтобы платок сняли. Женщина долго не понимала или вид делала, но потом осторожно сняла платок. Девочка выглядела очень плохо. Её глаза были полузакрыты, она тяжело дышала всё время хныкала. Она явно была больна. Вальтер понял, что этого ребёнка он где-то видел. Причём не здесь. Она не была похожа на других детей Довганя. Несмотря на то, что была пострижена наголо, очень грубо, наверное, обычными ножницами, было видно, что её волосы чёрные и очень густые.
– Wer sie? Кто она? – спросил Вальтер у женщины. Та испуганно молчала. Вопрос пришлось несколько раз повторить, показывая пальцем на девочку.
Наконец, женщина тихим хриплым голосом что-то произнесла. Вальтер в своё время штудировал немецко-русский разговорник, который выдали офицерам. Как он понял, женщина сказала, что это её дочь.
– Du lügst! Ты врёшь! Es nicht deine Tochter! Это не твоя дочь! – возразил Вальтер.
Откуда-то выскочил старший сын Довганя и встал между Вальтером и матерью. С ненавистью глядя на Вальтера, он стал что-то громко говорить, показывая на девочку и на себя. Вальтер разобрал только слово «сестра». Надо понимать, мальчик говорил, что это его сестра. Подошедший Штауб пинком ноги отогнал его подальше. Тот опять подбежал к матери. Штауб за ухо оттащил мальчика к сараю, схватил висевшую там верёвку и стал лупить его по спине.
– Wer sie? Кто она? – Вальтер, не обращая внимания на Штауба, повторил вопрос. Женщина молчала, прижимая к себе ребёнка. Она дрожала и была очень бледна.
– Es ist meine Tochter. Это моя дочь. Sie rufen der Wera. Её зовут Вера, – это сказал Довгань, который до того возился на огороде и пришёл на шум. Он встал перед Вальтером, пытаясь закрыть собой ребёнка.
Увидев Довганя, Вальтер вспомнил, где видел девочку. Это была дочь той еврейки с красивыми волосами, которую Довгань вчера расстрелял.
– Sie nicht deine Tochter! Sie ist Jude! Она не твоя дочь! Она еврейка! – сказал Вальтер резко.
Григорий молча шагнул вперёд и встал, почти касаясь Вальтера. Он был ниже немца и, чтобы посмотреть тому в глаза, ему пришлось поднять голову. От него пахло свежевскопанной землёй, и этот едкий запах мгновенно вернул Вальтера во вчерашний день.
Набежавшая туча закрыла солнце. Стало темно, потянуло холодом. Мир исчез. Остался только один его маленький осколок. Осколок, в котором лицом к лицу стояли двое. Нет, не двое. Здесь был ещё третий – женщина, вчерашняя еврейка. Её распущенные волосы теребил лёгкий ветерок, обнажённое тело было прекрасно. Она стояла, выпрямившись во весь рост, и, молча, смотрела на мужчин, тем глубоким взглядом, которым смотрела перед собой тогда, за полчаса до своей смерти. Мужчины хорошо её видели, хотя пристально глядели друг другу в глаза. Григорий смотрел без страха или гнева. В его взгляде была спокойная уверенность человека, наконец, освободившегося от вековечного гнетущего страха. Во взгляде Вальтера было удивление и растерянность. Удивление и растерянность того, кому внезапно открылась Истина.
Они смотрели друг на друга разделённые пропастью, лежащей между их народами, культурами, цивилизациями, и объединённые общим преступлением. Они смотрели друг на друга долго, целую вечность. И тогда женщина шагнула вперёд и положила им на плечи свои тёплые руки.
Мир вернулся. Перед Геккелем стоял Довгань в старом потрёпанном пиджачке и такой же помятой кепке. За его спиной была жена с еврейской девочкой на руках. Чуть дальше Штауб хлестал верёвкой их сына.
– Хайль Гитлер, герр майор! – послышалось сзади.
Геккель вздрогнул, его рука рефлекторно потянулась к кобуре. Он обернулся. По дорожке от калитки шёл Зигель.
– Что у вас тут? Проблемы с новым старостой села? – спросил Зигель. В глубине его бесцветных глаз светился холодный огонёк.
– Да нет, у него дочь заболела, он лекарство попросил, – ответил Геккель, шагнув навстречу.
– Какая ещё дочь? – спросил Зигель настороженно. – Вчера никакой дочери не было!
– Она больна, поэтому её не показывали. Не подходите, Зигель. Иди знай, что там за зараза. Как бы не тиф. Идёмте-ка лучше в дом, выпьем кофе. Мой адъютант великолепно его готовит. Штауб, перестаньте избивать ребёнка! Идите и приготовьте нам с унтерштурмфюрером кофе.
– И всё-таки, что это за ребёнок? Как-то странно…
– Зигель, скажите, я давно хочу спросить, что будет с тем солдатом, Ленце кажется? Вы его под трибунал отдадите?
– Зачем под трибунал? Я его домой отправил, в Потсдам. Вместо него другого пришлют.
– Так просто?
– Да, просто. Эта работа – вы меня понимаете – не каждому по плечу. Не стоит осуждать человека, который не может преодолеть предрассудки. В конце концов, скоро еврейский вопрос будет решён. А арийскую кровь надо беречь.
Через час, садясь в штабной «Вандерер», чтобы навсегда покинуть Каменку, Геккель оглянулся. Довгань возился в огороде, его жена подметала дорожку у дома, детей видно не было. Геккель захлопнул дверцу и скомандовал водителю ехать.
– – –
Через полтора года после этих событий Вальтер Геккель был взят в плен. Домой в Ганновер он попал только в сорок седьмом году. Всю жизнь он хотел выяснить, что стало с другими участниками той истории, но так и не решился ворошить прошлое.
Эберхарт Зигель дослужился до чина штурмбанфюрера. После войны его разыскивали, как нацистского преступника, но безуспешно.
Василий Коваленко ушёл с отступавшими немецкими войсками и, скрыв прошлое, вступил в боевой отряд украинских националистов. В сорок шестом году погиб в бою с войсками советского МВД недалеко от Рахова. Впрочем, неясно тот ли это Василий Коваленко – эти имя и фамилия очень распространены.
В сорок третьем году, когда Советская Армия освободила Каменку, Григорий Довгань не ушёл с немцами. Его арестовали по обвинению в пособничестве немецко-фашистским оккупантам и личном участии в расстреле мирных советских граждан. По приговору военного трибунала он был повешен в родной Каменке при большом стечении народа.
На момент его ареста ни Катерины, ни детей в Каменке не было. Дальнейшая их судьба неизвестна. В уголовном деле Довганя значится, что у него было четверо детей. Не трое, а четверо. Возможно, Бела Розенблюм выжила. Остаётся надеяться, что жизнь еврейской девочки, спасённой украинским крестьянином, сложилась счастливо.
Днепропетровск, 2008–2013
Скачать на телефон Купить книгуРассказ о потерянной дочери
− Кто там? – спросил из-за двери слабый женский голос.
− Здравствуйте! Вы Елена Александровна? – светлое пятнышко в дверном глазке потемнело – меня кто-то внимательно изучал. − Мы вам звонили. Мы по поводу Екатерины Афанасьевой.
− Да-да, я помню! Подождите, я сейчас открою.
Ждать пришлось довольно долго. Когда я уже решил снова нажать на кнопку, раздался звук открываемого замка.
Хозяйка квартиры оказалась невысокой пожилой женщиной с гладко зачёсанными седыми волосами и густыми чёрными бровями. Я понял, почему она долго не открывала – она одевалась. На ней был костюм, который лет тридцать назад был парадным: тщательно вычищенные и выглаженные тёмно-серые жакет и юбка, от которых исходил запах ныне забытого нафталина, и белая блузка с высоким воротником, застёгнутым большой брошкой с камеей.
− Проходите, не стойте на пороге, − она отступила в сторону, пропустив нас с Санькой.
Это была двухкомнатная квартира в доме постройки конца сороковых годов: высокие потолки, деревянные перекрытия, стены, обитые картоном вместо штукатурки, крашеные водоэмульсионной краской с накатанным орнаментом. Пахло сыростью и гниющей древесиной. Обстановкой комнаты, куда мы прошли, служили: древний продавленный диван, под стать ему стол, бывший одновременно обеденным и письменным, книжные шкафы и полки, занимавшие всё пространство стен. Здесь повсюду были книги: в шкафах, на хромых стульях, на старом, неработающем телевизоре «Горизонт», на полу. Большинство книг были по медицине и психиатрии. Было много художественной литературы. Один из книжных шкафов был заполнен родными мне техническими изданиями.
− Елена Александровна, мы вам торт принесли, − сказала Санька.
− Ой, спасибо, дорогие вы мои! – её глаза загорелись. – Да вы присаживайтесь! Вот, на диван можно. Сейчас-сейчас, я книги со стульев уберу…
− Давайте я вам помогу, − я принялся снимать со стульев пыльные стопки книг и складывать их на пол.
− Ой, простите, я совсем растерялась! Так редко кто-то приходит. Да ещё такие обаятельные! Сейчас-сейчас, я чаю приготовлю. Вы, пожалуйста, посидите, подождите.
Мы с Санькой чинно уселись на диване. Пока хозяйка возилась на кухне, звеня посудой, мы молча разглядывали корешки книг. С Санькиного лица не сходило удивлённое выражение – такого обилия книг в обычной квартире она никогда не видела.
− Вот и я! – сказала Елена Александровна, входя в комнату с огромным подносом в руках.
Санька вскочила и принялась помогать хозяйке накрывать на стол. Я стал резать торт.
− Может, вы вина хотите? – озабоченно спросила Елена Александровна, когда мы, наконец, уселись за стол.
− Нет, что вы! Мы не пьём, – уверенно соврала Санька.
Чай мы пили из чашек, когда-то бывших частью парадного сервиза. Они долгие годы простояли в серванте, и сейчас чай имел привкус въевшейся в них пыли.
Елена Александровна ела торт маленькими кусочками, которые она тщательно пережёвывала и не спешила проглатывать.
Я нарушил своё табу и съел немного торта. Он оказался действительно вкусным. Я забылся и взял бы ещё один кусок, если бы Санька не стукнула меня ногой под столом.
− Елена Александровна, мы из молодёжного благотворительного фонда «Протяни руку другу». Мы опекаем молодых людей с особыми потребностями, в общем, инвалидов, − бессовестно врала Санька, ей не терпелось перейти к делу.
− А что это за фонд такой? Никогда не слышала, − засомневалась Елена Александровна.
− А он появился недавно. Учредительное собрание состоялось только неделю назад. Так что, мы ещё молодые, – Санька кокетливо улыбнулась. − Вот Михаил Александрович, он вице-президент фонда, а меня зовут Саша Спиридонова, я координатор проекта помощи молодым людям с психическими расстройствами.
− И чем это я, старуха могу быть полезна вашему молодёжному фонду? – спросила она, поглядывая на остатки торта.
− Мы собираем данные о молодых инвалидах, которые могут нуждаться в нашей помощи, − вступил в разговор я. – Некоторых из них мы никак не можем разыскать.
− Зачем это?
− Мы хотим побывать у них дома, оценить характер и размер помощи, которую можем предоставить.
− А что это за помощь?
− Это мы будем решать в каждом конкретном случае. Может быть, нужны медикаменты, может, питание, может, одежда. Мы должны посмотреть, тогда примем решение.
− А вы помогаете только молодым?
− Да только до двадцати восьми лет.
− Жаль… − её глаза погрустнели, она помолчала, затем сказала, принявшись складывать какую-то фигуру из бумажной салфетки: − По телефону вы что-то говорили о Катеньке Афанасьевой.
− Да, Елена Александровна, мы никак не можем её разыскать. Мы знаем, что она воспитывалась в специнтернате. Знаем, что кто-то её удочерил.
− Почему вы обратились ко мне?
− Вы ведь её врач. А врачи не должны терять из виду своих пациентов. Да ещё таких.
− Да, это вы правильно сказали. Врачи не должны терять из виду своих пациентов. Таких своих пациентов. Как мало сейчас осталось настоящих врачей... − она замолчала, продолжая складывать салфетку. Вскоре салфетка превратилась в изящную розу. Она протянула её Саньке. – Вот, возьмите, Сашенька. Этому, искусству оригами меня научил один мой пациент.
Санька поблагодарила и хотела о чём-то спросить, но Елена Александровна её не слушала.
− Это было давно, в пятьдесят первом, – она взяла другую салфетку и начала её складывать. − Я только окончила мединститут и начинала работать. Он поступил к нам в тяжёлом состоянии. Тяжелейшая депрессия. Был на грани самоубийства. Про него шёпотом говорили, что он был в лагерях. В «шарашке». Знаете, Сашенька, что такое «шарашка»? Не знаете? Действительно, откуда вам… Это такой концлагерь, где сидели самые талантливые люди, специалисты.
− Его звали Эмиль. Его посадили в сорок первом. Сразу, как война началась. Даже толком не объяснили за что. Сначала он сидел в одном лагере с уголовниками. Делать фигурки из бумаги он научился там. Бумаги там было мало, но он их делал. Потому и выжил. Уркам его фигурки очень нравились. Они и бумагу ему доставали. Потом, через полгода его перевели в ту самую «шарашку». Там они разрабатывали какое-то оружие, что-то для артиллерии. Он никогда не говорил, что именно.
− У него была семья. Жена и маленькая дочурка. Когда его посадили, то запретили с ними переписываться. Из лагеря он вышел только в сорок шестом. Сразу же поехал домой. Сюда, в этот город. А дома нет… Ему соседи потом рассказали, что произошло. Его жену немцы расстреляли. А годовалая дочка потерялась. Потерялась при странных обстоятельствах.
− Колонну, в которой его жену с дочкой вели на расстрел, полицаи гнали по улицам города. На тротуарах стояли люди. Они смотрели на тех, кого через несколько минут уже не будет в живых. Смотрели молча. Кто-то равнодушно, кто-то с любопытством, кто-то со злорадством. Людям, знаете ли, нравится, когда убивают кого-то другого… Главное, что другого, главное, что не тебя… Эта толпа стояла по всему пути движения колонны. Внимательная… жадная… молчащая…
− В одном месте Рахиль, её звали Рахиль, заметив, что конвоиры отвлеклись, вытолкнула свою дочь из колонны. Девочка на своих слабых ножках, не понимая, что делает, неуверенно пошла в ту самую толпу. Толпа расступилась – зеваки шарахались от неё, как от прокажённой.
− Девочка прошла толпу насквозь и стукнулась лобиком о колени какой-то женщины. Она потянулась вверх, прося взять её на ручки, как это всегда делала с мамой. Та женщина, увидев её глазки, схватила и прижала её к себе. Так, обняв чужую дочь, она какое-то время стояла под недоумёнными взглядами зевак. Затем опомнилась и с ребёнком на руках что есть духу бросилась прочь. Больше её никто не видел.
− Через несколько минут Рахиль уже лежала с простреленной грудью на дне рва под горой трупов других несчастных.
− Эмиль, узнав обо всём, поклялся найти свою дочь. Его, бывшего врага народа, высококлассного инженера взяли работать на один из наших заводов простым рабочим. Всё свободное время посвящал поискам дочери. Прошло пять лет, и он её таки нашёл – он был очень упрямым человеком. То есть, нашёл он не её. Он узнал, что в одном из сёл неподалёку живёт женщина, простая крестьянка. Поселилась она там осенью сорок первого. Она некрасива, замкнута, живёт без мужа с одной только девочкой, которая называет её мамой. Хотя девочка на неё совсем не похожа.
− Трудно описать, как Эмиль обрадовался! Он бросил все свои дела. Он приехал в то село. Он долго бродил по нему, расспрашивая людей о той женщине. Наконец, ему объяснили, где её найти. Он нашёл тот дом. Простой сельский дом. Вошёл во двор. Ему никто не вышел навстречу. Он постучал в дверь. Ему никто не ответил. Он открыл дверь – она не была заперта. Он позвал хозяев. Ему опять не ответили. С замершим сердцем он переступил порог. И вот что он увидел. Окна и двери были распахнуты настежь. На обеденном столе стояли тарелки с едой. Над ними ещё поднимался пар. В доме никого не было…
Елена Александровна замолчала, доделывая розу. Было так тихо, что было слышно, как тикают мужские часы на её руке.
− Свою дочь Эмиль так и не нашёл, − сказала Елена Александровна и протянула мне розу. – Это вам, Михаил, на счастье…
− А что было дальше? – спросила Санька.
− Дальше?.. Ах, дальше… − Елена Александровна, прищурившись посмотрела в окно. – Эмиль тяжело заболел, лежал у нас, я его лечила. Потом мы поженились. В шестьдесят втором он умер. Вот и вся история…
− В моей жизни было только два мужчины: мой отец и мой муж. Всё, что вы видите перед собой в этом доме, мне осталось от них. Папа начал собирать коллекцию книг по медицине. Я всю жизнь продолжала его дело. Кому они сейчас нужны?.. А от Эмиля мне остались те технические книги, да часы, что сейчас на мне. «Победа». Хорошие часы. До сих пор идут. Только стали отставать.
В основу этой новеллы положена реальная история, произошедшая в с. Калиновка Днепропетровской области и рассказанная автору Семёном Аврамовичем Заславским.
Днепропетровск, 2009
Скачать на телефон Купить книгуПолчаса до рейса
– Не знаете, когда этот туман, наконец, кончится? Не знаете? Ну да, глупый вопрос…
Полжизни провела в аэропортах, а привыкнуть не могу. Сидишь, ждёшь…
Вы куда летите? В Днепропетровск? По делам? Домой... А я во Франкфурт. Там пересадка, и дальше – в Лиссабон. У меня там кафе собственное, и квартиру купила. Так что, выходит, тоже домой…
А ведь я из ваших мест, из Днепра. Не совсем, правда. В Днепродзержинске жила. Ой, и вы там жили! А где? И я на Южной! А в каком доме? Так это ж через два дома от меня! То-то гляжу – лицо вроде знакомое!
Давно там были? Не бываете. Никого не осталось… Теперь и у меня никого там никого…
А давайте выпьем! У меня коньяк есть. Армянский. Своему везла... да ладно, перебьётся. Давайте! Не отнекивайтесь! За встречу земляков сам Бог велел. Ага, вот она где... на самом дне… Девушка, можно два стаканчика? Спасибо. Ну, что же вы? Разливайте, вы же мужчина!
Отличный коньяк. Сразу полегчало… Что так? Да я с похорон. Неважно… не будем о печальном.
Вы женаты? Ого! Тридцать два года! Как можно с одним человеком… Любите её? Глупый вопрос – раз столько вместе, значит любите…
Я?.. Нет, сейчас уже нет. Была замужем. Не поверите − трижды.
Нет, не одна. Есть мужчина. Всегда кто-то есть…
Давайте ещё по одной.
Как вам та брюнетка? Не притворяйтесь, я же видела, как вы на неё глянули. Что, нравятся молодые девки? У меня глаз намётан. Вот, улыбнулись − честно признались. А то знаете, большинство врут: я женат и всё такое.
Ой, извините меня… болтаю много. Это всё коньяк. И ночь не спала…
Ну, расскажите что-нибудь о себе. Что вы всё молчите, да молчите? Больше любите слушать…
Дождь пошёл. Этого не хватало! Мало нам тумана. Почему это хорошо? Дождь туман смоет? Ну, тогда скоро улетим. Дай-то Бог…
Вы дождь любите? А я люблю. В дождь мне спокойно. Все гадости в моей жизни случались в ясную погоду.
Не хотите о себе рассказывать – как хотите…
Тогда я расскажу о себе. Вы же любите слушать. Одна история… Никому не рассказывала. Никому… Вам расскажу. Почему нет? Всё равно через полчаса объявят посадку, и мы с вами разлетимся в разные стороны. Я расскажу… А вы слушайте. Или не слушайте. Как хотите… Хоть вид делайте.
– – –
Не могу вспомнить, как выглядел мой отец, мой настоящий отец. Помню только, что волосы были тёмными. Остальное: глаза, черты лица – всё стёрлось из памяти. Осталось только тоскливое предчувствие опасности. Всю жизнь оно во мне. Поднимается из глубин сознания каждый день ближе к его концу, когда отец приходил с работы домой.
Он работал в пятнадцати минутах ходьбы от дома. В пять часов вечера его контора закрывалась, в пять пятнадцать, минута в минуту, отец открывал нашу дверь.
Мы с мамой должны были его встречать. Не дай Бог мне было заиграться и забыть или подойти к двери с опозданием, когда отец уже переступал порог! Наказание следовало сразу же – несколько ударов по ладоням рожком для обуви, который висел тут же на гвоздике. Я должна была смотреть ему в глаза. Если я отводила взгляд, он бил сильнее.
Любое моё отступление от заведённого отцом порядка наказывалось. Поводы для наказания были всегда: разбросала ли я игрушки, долго ли гуляла, замешкалась выполнить его распоряжение. За последнее он бил электрическим удлинителем – проводом в резиновой оболочке. Это очень больно. Особенно, если попадает сзади над коленом.
Иногда мама пыталась заступиться. Отец ничего не говорил – достаточно было одного его взгляда. Потом он уводил её в их комнату. Что там происходило, не знаю. После этого мама долго на меня не смотрела. Однажды я видела, как она плакала. Это был единственный раз, когда я видела маму плачущей.
Когда отец был дома, я пряталась на кухне между шкафом и холодильником. Сидела на табуретке, прижавшись к белой мерно гудящей поверхности, мечтала, рисовала в тетрадке.
Однажды я замечталась и что-то нарисовала прямо на стенке холодильника, уже не помню что. Мама попыталась стереть мой рисунок и вместе с ним протёрла эмаль. Увидев безобразное пятно, отец сразу всё понял. Схватив за плечо, он выставил меня на улицу.
Была зима, поздний вечер. В чёрном небе, не мигая, горели звёзды. На мне была только домашнее. Испуганная, я не сразу ощутила холод. Почувствовав, как болят кончики ушей, опомнилась и стала колотить кулачками в дверь.
Не помню, сколько это продолжалось. Наконец, дверь открылась. Мама схватила меня на руки и занесла в дом. Посадив на стул, она долго растирала меня чем-то колючим. После поставила передо мной большую чашку чая. Пока я пила она торопливо складывала вещи в старый дерматиновый чемодан. Потом мама принялась меня одевать. Она всё делала, молча, не глядя мне в глаза. Надев на меня, наверное, всю мою тёплую одежду, она оделась сама.
Отца всё это время я не видела.
Не присев на дорогу, мама взяла меня за руку, в другую руку чемодан, и мы вышли на улицу. Я удивилась: мама не выключила свет – отец за это накажет!
Потом мы ехали в поезде. Мне было страшно и одиноко. Мама, моя мама со мной не разговаривала! Когда я попыталась взять её за руку, она её отдёрнула и отвернулась. Я решила, что во всём виновата. Это из-за моего детского рисунка отец нас выгнал из дому, и теперь мы с мамой едем неизвестно куда.
Всю дорогу мама не промолвила ни слова. Только тёрла ладони одна о другую, как бы пытаясь стереть что-то грязное, мерзкое. Эта привычка осталась у неё навсегда. В задумчивости она всегда тёрла ладони одна о другую. Даже, когда умирала, она двигала рукой, будто пыталась что-то стереть. Я тогда взяла её ладонь в свои и гладила, пока она не успокоилась…
Мы стали жить у дяди Георгия. Он был дальним маминым родственником. Квартирка была маленькой: всего одна комната, кухня, ванная с туалетом. Была в ней ещё кладовка с окошком под потолком – довольно большая, в ней как раз поместилась кровать, на которой я спала.
К нам с мамой дядя Георгий относился хорошо. Меня не наказывал. По привычке я пряталась от него в своей кладовке.
В первый же год у дяди Георгия я пошла в школу. Учиться было неинтересно, но я старалась и получала хорошие оценки. К одноклассникам я относилась с опаской, потому друзей у меня не было.
Когда я возвращалась из школы, мама кормила меня, потом я делала уроки за кухонным столом, пока мама готовила обед дяде Георгию. Потом я закрывалась в кладовке и рисовала. Гулять не ходила – было не с кем.
Спала я в своей кладовке за плотно закрытой дверью, мама и дядя Георгий – в комнате. Однажды я проснулась от каких-то ритмичных звуков. Осторожно приоткрыв дверь, я заглянула в комнату и увидела, что там происходит. Помню, мама лежала, закрыв руками лицо.
Эти звуки раздавались почти каждую ночь. Всё совершалось быстро. Иногда в конце доносился короткий стон дяди Георгия. Мамин голос я не слышала никогда.
Мама устроилась на работу. Из школы я возвращалась в пустую квартиру, обедала тем, что мама мне оставляла с утра, делала уроки, рисовала. Вечером с работы возвращались мама и дядя Георгий.
Не припомню, чтобы они когда-нибудь ругались. Только однажды, через закрытую дверь кладовки до меня донёсся какой-то разговор. Мама что-то очень резко говорила, я не разобрала что. Я насторожилась – в таком тоне она обычно не разговаривала. Что ей ответил дядя Георгий, я не расслышала – он сказал это, понизив голос. Мама не ответила. Утром у неё было заплаканное лицо.
Шли годы. Я росла, мои формы стали округляться. На меня стали обращать внимание.
На стройке, где работал дядя Георгий, начались простои. Он стал рано возвращаться домой. Часто он приходил раньше меня. Наедине со мной он был приветлив. Расспрашивал о моих делах, помогал по дому. Не упускал случая приласкать. Я противилась. Он не настаивал, но при возможности попытку повторял. Это прекращалась, когда в дом заходила мама. Как-то он забылся и поцеловал меня в шею, когда мама была дома. Она это заметила.
Однажды я решилась и пошла на школьную дискотеку. Своей косметики у меня не было. Одноклассницы затащили меня в туалет и накрасили, как того требовала мода. В тот вечер я имела успех. Домой меня провожали два мальчика. Мы долго стояли у нашего подъезда, болтали, смеялись.
Увидев меня накрашенную, пропахшую табачным дымом, дядя Георгий побелел от злости и набросился с руганью. И мама, моя мама назвала меня шлюхой!..
Мне запретили выходить из дому – только в школу и сразу домой. Я не слушалась – по вечерам уходила гулять. Поклонников у меня становилось всё больше. Дома меня ждали скандалы.
Однажды я сказала очередному провожатому, что хочу посмотреть, как он живёт. Он повёл меня к себе. Его родителей не было дома. Там это и случилось. Для нас обоих это было в первый раз, но я точно знала, что должно произойти. Мне не понравилась – было неприятно. Удовольствие я получила от осознания своей власти: мальчишка сделал именно то, чего я хотела.
Заводить постоянного парня я не стала. Отношений не хотелось. Мне было достаточно того, о чём мои одноклассницы только мечтали, а я получала с лёгкостью. Для меня это была не более чем игра, которой я научилась управлять, всегда сохраняя контроль. Со смешанным чувством любопытства и презрения я наблюдала, как очередной партнёр совершает предсказуемые действия, считая себя хозяином положения. Соитие не доставляло удовольствия – я наслаждалась властью. Одержав очередную победу, я теряла интерес.
Поступив в институт, я погрузилась в свободную студенческую жизнь. Дома стала бывать меньше. Атмосфера там была гнетущей. Нет, когда я была наедине с мамой или дядей Георгием, всё было хорошо. С мамой мы разговаривали, как и раньше. Дядя Георгий по-прежнему старался меня приласкать. Но когда мы были втроём, царило гробовое молчание – мама и дядя Георгий почти не разговаривали, зато не упускали случая ко мне придраться. По ночам между ними ничего не происходило.
Как-то я пришла домой почти под утро. Они не спали. Дядя Георгий был на взводе, кричал сильнее обычного. Я, как всегда, отмалчивалась. Моё молчание разозлило его ещё больше. Он меня ударил. Мама, моя мама сказала: «Так её! Бей ещё!».
Когда на следующий день я вернулась из института, дядя Георгий был дома. Как ни в чём ни бывало, он стал расспрашивать о моих делах. Когда мы пообедали, взялся помогать мыть посуду, пошёл со мной на кухню. В дверях обнял меня за талию. Тяжело дыша, прижал к себе, его рука стала мять мою грудь. Я замерла. Его рука опустилась ниже. Тогда я развернулась и изо всей силы ударила его по лицу, оставив на нём глубокие царапины от ногтей.
Я выскочила из дому, в чём была. До вечера просидела у очередного приятеля.
Когда я вернулась, дяди Георгия дома не было. Квартира была усеяна обрывками бумаги. Я зашла в кладовку. Мама, моя мама сидела на кровати и рвала на мелкие кусочки мои рисунки. На полу стоял дерматиновый чемодан, в который она сложила мои вещи.
Недавно я узнала, что мама умирает от рака. В больницу к ней я попала слишком поздно – она меня уже не узнала. На похоронах дядя Георгий подошёл ко мне, хотел что-то сказать, но только заплакал.
Днепропетровск, 2011–2015
Скачать на телефон Купить книгуДом
Сначала его построили.
Много лет назад он, только что построенный, в окружении молоденьких деревьев гордо возвышался среди собратьев, задорно сигналя им солнечными зайчиками от стёкол в ярких оконных переплётах, словно говоря: «Здравствуйте, домá! Это я! Теперь я буду жить с вами!». Другие домá, умудренные жизнью, сдержанно скрипели дверными петлями: «Ну, здравствуй…». Он весело сверкал новой черепицей: «Я простою здесь триста лет, вот увидите!». Соседи только кривились рассохшимися оконными рамами: «Ты не знаешь, что такое время…». Он беззаботно подмигивал фонарём над крыльцом: «Мои хозяева проживут во мне долгую счастливую жизнь!». Соседи только вздыхали, скрипя половицами: «Ты не знаешь, кто такие люди…».
Старые дома не спешили принимать новичка в свою компанию. То один заталкивал свой древний мусор в общую канализацию, то другой ронял кусок шифера на воздушную проводку, чтобы погасить беззаботные окна соседа. В конце концов, ворчливые старики привыкли к юноше и перестали его шпынять, унялись, вздохнув ветром в вентиляционных трубах: «Ничего-ничего, поживи с наше…».
Потом приехали хозяева.
Когда молодой хозяин переносил юную супругу через порог, дом держал дверь широко раскрытой. Ему очень хотелось понравиться. Пока молодожёны осматривали семейное гнёздышко, он затаил дыхание – ни одна половица не скрипнула под их ногами, ни один сквозняк не подул на их разгорячённые лица, ни одна лишняя капля не упала из водопроводных кранов и ни одна лампочка не моргнула, зажигаясь. Все замки поворачивались плавно, двери открывались беззвучно. Яркие краски обоев играли в солнечных лучах, падавших сквозь прозрачные окна.
Молодая хозяйка громко восхищалась новым жилищем. Дому она понравилась сразу. Она была такой же молодой и жизнерадостной, как он сам. Когда хозяева обошли все комнаты, она бросилась на шею своему супругу и подарила ему страстный поцелуй. Дом слегка обиделся – он так старался, а благодарят почему-то не его! Обида быстро прошла, но на снежно-белой глади потолка кухни осталась крохотная, едва заметная морщинка-трещинка…
По ночам дом держал окна плотно закрытыми, а занавески опущенными, чтобы любовные стоны его хозяйки не были слышны на улице. Ей было хорошо, и ему было хорошо тоже. Вместе с ней он сладостно вздыхал пламенем в отопительном котле, его краны источали тёплую влагу. Потом они с хозяйкой замирали и тихо спали до самого утра. Утром он с выражением довольства поглядывал на соседние дома. Те снисходительно ухмылялись своими морщинистыми фасадами.
Шло время…
Ночи, когда им с хозяйкой было хорошо, становились всё более редкими. Однажды хозяйка вместо того, чтобы предаться удовольствиям, вдруг вскочила из постели и заперлась в ванной. Она сильно хлопнула дверью, сделав дому больно. Дом не понял, что произошло, что он сделал не так. В комнатах было тепло и сухо. В трубах была вода нужной температуры, в проводах – напряжение нужной величины. Может, хозяйку напугала мышка, которая два дня назад поселилась за плинтусом в кладовке? Так нет – Дом завалил мышкину норку кусочками штукатурки, и та ушла жить к соседям. Дом обиделся. От косяка двери спальни оторвись несколько чешуек краски, окна покрылись чуть заметным слоем грязи. Утром дом поздоровался с соседями чуть учтивее, чем всегда. Те понимающе переглянулись.
Жизнь текла размеренно и однообразно. По утрам хозяева уходили, и Дом оставался один. Приходили они только под вечер, ужинали и занимались каждый своим. Они всё меньше разговаривали между собой. По ночам они просто спали. То, что происходило между ними в молодости, случалось и сейчас, но было это нечасто и без прежнего удовольствия. Ссорились они тоже редко – научились многого не замечать. Они становились невнимательны друг к другу и невнимательны к Дому. Его стали одолевать стариковские хвори: обои потускнели, окна стали мутными, краска облупилась, из проржавевших труб наружу сочилась вода, и от неё стал проседать фундамент.
Дом устал обижаться. Он подружился с мышами. Его забавляла их шустрая возня под полом. Хозяйка, которая панически боялась мышей, купила кота. Дом был готов терпеть котовы когти на своих обоях, лишь бы тот не трогал его мышей. Коту мыши не понравились, он решил, что связываться с ними ему не к лицу. В благодарность дом не позволял закрываться форточке на кухне, чтобы кот беспрепятственно мог уходить по своим кошачьим делам.
Дому понравилось судачить с другими домами. То были обычные стариковские разговоры о том, как хорошо было раньше, и как плохо быть старым и больным. Особенно громко дом жаловался на здоровье зимними морозными ночами, когда в трещинах, которые пошли от просевшего фундамента замерзала вода и лёд со стуком и скрежетом разрывал стены.
Потом хозяйка уехала.
Она собрала вещи, вышла из Дома с двумя огромными сумками, села в большую белую машину и уехала. Дом всё ждал, что она вернётся. Она не вернулась. Дом стал грустить. Он вспоминал, как хозяйка, молодая и сияющая, вошла в него впервые, как она ему обрадовалась, как он оберегал её ночной покой, как она в первый раз его обидела, больно хлопнув дверью.
Сначала Дом плакал – его стены отсырели, на них появился грибок.
Потом он перестал плакать.
Потом он её забыл.
Днепропетровск, 2008
Скачать на телефон Купить книгуСон, приснившийся под утро
Там на зелёных ниточках-стебельках растут разноцветные Воздушные Шарики. Когда они созревают и становятся большими, упругими и особенно яркими, то лопаются, разбрасывая вокруг снопы пронзительно-ярких искр.
Этим захватывающим зрелищем любуются Маленькие Мышки. Они одеты в серебристые пелеринки, а их ушки и хвостики выкрашены в яркие цвета. Причём, молодые Мышки красят одно ушко в один цвет, другое – в другой.
Когда какой-нибудь Шарик уже готов лопнуть, Мышки приходят к нему, чинно рассаживаются вокруг и, сцепив хвостики и затаив дыхание, ждут. А когда это происходит, они приходят в такой неописуемый восторг, что некоторые тут же начинают заниматься любовью.
Заниматься любовью на глазах у всех у Маленьких Мышек считается признаком хорошего тона. И, правда: разве можно прятать Радость от других? Это же некрасиво!
В Сумрачном мире живут Маленькие Гв?здики. У них круглые покрытые мягким мехом шляпки и отточенные блестящие острия. Они переговариваются, постукивая своими остриями по чему-нибудь твёрдому. Но делают они это очень тихо и очень редко. Не потому, что они глупые, нет! А потому что они очень воспитанные и деликатные. Дело в том, что Маленькие Гвоздики разговаривают только стихами – по-другому не умеют. А больше никто, кроме них не может складывать рифмы. И чтоб никого не смущать, они стараются разговаривать только, когда их не слышат.
Это Гв?здики так думают, что их не слышат. Маленькие Мышки, которые очень любят стихи, но стесняются в этом признаться, тихонько подкрадываются к Гв?здикам и слушают их, оставаясь невидимыми.
Гв?здики лучшие друзья Воздушных Шариков. Когда какой-нибудь Шарик очень хочет порадовать Маленьких Мышек, но ещё не готов к этому, он просит какого-нибудь Гв?здика помочь ему, и тот помогает.
Воздушные Шарики растут не сами по себе. Их выращивает Кто-то. Или Некто. Его никто никогда не видел и не слышал, но всем интересно знать кто же это. Маленькие Мышки никак не могут разрешить эту проблему. Половина из них уверена, что это Кто-то, а другая настаивает, что он – Некто. Иногда между ними разгораются кипучие споры. Но им никак не удаётся прийти к единому мнению по этому очень важному вопросу, потому что, будучи разгорячёнными бурной дискуссией, они начинают заниматься любовью. Делают они это так неистово и самозабвенно, попискивая и постанывая, и получают такое наслаждение, что многие Шарики от радости за Мышек лопаются раньше времени, а Гвоздики слагают целые поэмы. Кто-то (или, может быть, он всё-таки Некто?) на них за это не обижается. Да разве можно обижаться на Маленьких Мышек в серебристых пелеринках, да ещё с цветными ушками? Особенно, если одно ушко выкрашено в один цвет, а другое – в другой!
Такие дни входят в Анналы, и Мышки ещё долго вспоминают их, затаив дыхание и глядя наверх, в серую мглу, в то место, где в других мирах находится Небо.
И правильно – радость нельзя забывать. Они и не забывают. Какие же они молодцы, Маленькие Мышки!
Сверху, из того места, где в других мирах находится Небо, в Сумрачный мир частенько струится сахарный песок. Маленькие Мышки его с удовольствием едят. Они ведь такие сладкоежки!
– – –
Вот такой замечательный мир существовал под полом продуктового склада номер три, когда Санстанция решила навести там порядок и прислала туда Дезинфектора с Суровым Предписанием и Страшными Средствами Дезинфекции.
Ты испугалась за Маленьких Мышек? Не надо, не бойся за них, Девочка! Не бойся, это ведь сказка, здесь же всё понарошку…
Когда в продуктовый склад номер три, имея в кармане Суровое Предписание, а за плечами Страшные Средства Дезинфекции, прибыл Дезинфектор, он стал искать, кому бы это Предписание вручить. Наконец, он нашёл Кладовщицу. Он протянул ей документ, они взглянули друг на друга и друг друга узнали.
Когда-то много лет назад у них была Любовь. Но он ушёл в армию, а она его не дождалась и вышла за другого. Очень скоро она поняла, что мужа своего не любит, а вышла за него только от обиды, что любимого нет рядом (хотя, в чём он был виноват?). Муж её тоже это понял и стал пить спиртные напитки и бить её. Они прожили вместе недолго, она ушла и с тех пор жила в общежитии одна без мужчины и без детей. А Дезинфектор – тогда он ещё не был Дезинфектором – очень сильно на неё обиделся и долго старался её забыть
Дезинфектор и Кладовщица вспомнили все, и былые обиды вскипели в них. Забыв обо всём, они наговорили друг другу много нехороших слов. А когда эти нехорошие слова закончились, и они поняли, что высказали всё, что накопилось, то вдруг замолчали и впервые по-настоящему заглянули друг другу в глаза. Они долго стояли, глядя в эти бездонные океаны, а потом, молча, не сговариваясь, стали раздеваться. Они легли на Старый Протёртый Диван, бывший в комнатке Кладовщицы, и оттуда стали доноситься ритмичные звуки и томные вздохи, а также сладостный скрип пружин.
Потому что Любовь, если она есть, никогда никуда не девается, а с годами становится только крепче. И любимые никогда друг друга не забывают, в каком бы из миров они ни жили.
А Мышки, Шарики, Гвоздики и даже сам Кто-то (или Некто?), затаив дыхание, слушали эти замечательные звуки, радуясь за этих двоих и наслаждаясь вместе с ними.
Дезинфектор доложил своему начальству о том, что продуктовый склада номер три нуждается в регулярной санитарной обработке, и раз или даже два раза в неделю выписывал новое Суровое Предписание и, вооружившись Страшными Средствами Дезинфекции, приезжал на склад. А как же иначе? Ведь ему больше негде было встречаться с Кладовщицей. Она была одинокой, но жила в общежитии, а у него была жена и двое детей: старший, мальчик и младшая, девочка.
Приехав на продуктовый склад номер три, Дезинфектор даже и не думал пускать в ход свои Страшные Средства Дезинфекции – он сгорал от нетерпения. Они с Кладовщицей запирались в её комнатке, сразу раздевались и ложились на Старый Протёртый Диван. А потом он ей рассказывал, а она его слушала. Слушала и вместе с ним радовалась за его сына, который поступил в университет и учился там уже на втором курсе, и рассказывал, какие там интересные преподаватели и весёлые друзья-студенты, и какие красивые девочки-студентки, а особенно одна из них – маленькая чёрненькая с пышными волосами, – и как она ему нравится, но она легкомысленная, любит играть в любовь, иногда с двумя мальчиками сразу, и ей от этого весело, а ему грустно, но он терпеливый и настойчивый, и рано или поздно она всё равно поймёт, что лучше его никого нет, и тоже его полюбит. Кладовщица слушала и вместе с Дезинфектором тревожилась за его дочку, которая училась уже в десятом классе, но совсем не думала о своём будущем, а думала только о том, какую юбочку покороче надеть и в какой ночной клуб пойти, чтобы гулять там с мальчиками, и похоже, что она уже курила, а иногда от неё пахло спиртным, отца она не слушала и матери грубила, и, вообще непонятно, что из неё вырастет. А потом они опять ложились на Старый Протёртый Диван и оттуда снова доносились ритмичные звуки и томные вздохи, и сладостный скрип пружин.
А Маленькие Мышки, радуясь Любви Дезинфектора и Кладовщицы, попискивая и постанывая, тоже начинали заниматься своей мышиной любовью. И лопались Шарики, а Гвоздики, мелодично позванивая, сочиняли новые стихи.
А тем двоим казалось, что это Ангелы смеются и играют им на своих серебряных струнах. И от этого их наслаждение возрастало безмерно.
И каждый такой день входил в Анналы.
И только Кто-то всегда молчал…
Или он всё-таки Некто?
Днепропетровск, 2010
Скачать на телефон Купить книгуКурсор
Факультет. Коридор. Серые стены. На потолке люминесцентные лампы. Светят только две. Она идёт навстречу. Останавливает. Любезное выражение застыло на лице, словно нарисованное. Поток слов – симуляция мысли. Дожидаюсь паузы, говорю что-то по случаю, изображаю улыбку, иду дальше. Внутри нажимаю «delete» – последние две минуты удалены из жизни.
– – –
«…Человек по имени Убар слез с коня и замер, поражённый простиравшейся перед ним картиной. За его спиной остановились слуги и вереница из шестидесяти рабов.
Резкий северный ветер, дувший им в спину, разогнал плотный утренний туман, открыв панораму колоссального строительства.
Первое, что увидел Убар, когда рассеялась туманная пелена, была, находившаяся в двадцати ашлах впереди, гора, как бы внезапно возникшая посреди равнины. Присмотревшись, он понял, что гора эта рукотворна. То была четырёхугольная пирамида со срезанным верхом. Высота её была никак не меньше двухсот пятидесяти локтей. Цвета она была красно-коричневого. К пирамиде были пристроены две огромных лестницы, по которым двигались люди. По одной лестнице они поднимались, неся на плечах какую-то поклажу, по другой спускались налегке. Что происходило на верху пирамиды, было не разобрать, потому как часть её была закрыта сизым туманом.
Восточнее, где сверкал своими водами Буранун, вся земля была изрыта огромными ямами. В тех ямах, словно в исполинском муравейнике, копошилось множество людей. Они вычерпывали мотыгами глину и клали её в плетёные корзины. Их собратья поднимали эти корзины себе на плечи и, двигаясь цепочкой, несли их на обширное поле. Земля там была покрыта чем-то, издали похожим на жёлтую змеиную чешую. Всмотревшись, можно было понять, что это кирпичи, из которых в этой местности делались все постройки, и которые, уложенные ровными рядами, ждали солнечных лучей, чтобы просохнуть и затвердеть. Придя на это поле, носильщики вываливали глину из своих корзин в большие ямы. Другие лили туда, воду, которую они приносили в бурдюках, наполнив последние в Бурануне. Когда ямы заполнялись, водоносы спускались в них и ногами месили материал для будущих кирпичей. Затем с помощью деревянных рам готовой смеси придавали нужную форму и раскладывали изготовленные кирпичи на земле, чтобы те просохли перед обжигом.
Оправившись от удивления, Убар сел на коня и, сделав знак спутникам следовать за ним, тронулся в путь к цели своего путешествия – городу, скрытому от глаз громадой пирамиды. Не пройдя и десяти ашлов, он понял, что сизый туман, закрывавший одну из сторон и верх пирамиды – это вовсе не туман, а дым, исходивший из множества больших печей, стоявших между пирамидой и полем, на котором сохли кирпичи. Подойдя ещё ближе, он увидел, как работники, бывшие при тех печах, полностью обнажившись, залезли в недра одной из них, видимо ещё не до конца остывшей, и, передавая друг другу, по одному вынимали из неё обожжённые кирпичи. Их товарищи укладывали кирпичи в холщовые мешки, чтобы отнести их потом по лестнице на верх пирамиды.
Повсюду между работающими, будь то землекопы или работники при печах, находились люди, вооружённые плетьми или палками, а то и короткими мечами. Они следили за работающими и не медлили применять свои орудия, когда кто-либо из тех мешкал делать требуемое…».
– – –
Открываю дверь с надписью «303». Вхожу. Включаю компьютер. Вешаю куртку, включаю чайник, сыплю в чашку кофе и заменитель сахара. Жду. Чайник закипает. Заливаю кипяток, размешиваю. Сажусь за стол. Система загрузилась, обновляется антивирус. Сижу, пью кофе, глядя на экран.
Всё, комп заработал. Вхожу в интернет. Почта, новости, фейсбук. Иллюзия жизни за серыми стенами.
– – –
«…Однажды перед заходом солнца Харис сидел на пороге своей лачуги и медленно жевал сухую лепёшку. Голова его была пуста, ибо не о чём ему было думать. Впереди был ещё один унылый вечер, за ним – трудный день, потом опять вечер без радости, и так – до скончания века. Уныние и печаль давно поселились в его сердце. Он даже не повернул головы, когда рядом с ним на порог его дома, не спросив разрешения, присел какой-то человек.
– Мир тебе, о Харис! – сказал незнакомец, обдав Хариса дурным запахом изо рта, который всегда исходит от голодных людей.
– И тебе мир, добрый человек, – ответил он, отломил кусок лепёшки и, не глядя, протянул её путнику. Затем он спросил не из интереса, а из вежливости: – Кто ты, куда путь держишь и откуда ты сам?
– Кто я? Я давно уже никто. Я бедный дервиш, который знает ответы на многие вопросы. А откуда я, я сам не помню – так давно живу я на свете.
– Но если ты так мудр, то почему беден? Если бы я знал ответы на все вопросы, то нашёл бы способ разбогатеть.
– Ответы на все вопросы знает только Тот, кто создал мир, в котором эти вопросы существуют. Я же знаю ответы на многие из них, но далеко не на все. А что касается богатства, то стать богатым нетрудно. Вопрос не в богатстве, а в цене, которую надо за него заплатить. И чем больше богатство, тем выше эта цена.
– Я видел много богатых людей, но не видел, чтобы кто-то из них тяготился своим состоянием, – усомнился Харис.
– И не увидишь, – уверил его незнакомец. – Ибо цена эта невидима.
– Всё равно не верю я тебе, незнакомец. Вы, дервиши, любите рассказывать небылицы и смущать умы обычных людей.
– Я столько живу на свете, что мне нет необходимости обманывать тебя, о Харис. Ты спрашивал меня о моём пути? Так вот, мой путь уже закончен, ибо цель моего странствия передо мной.
– И какова же цель твоего странствия? Неужели этот убогий квартал Басры?
– Нет, цель моего странствия не убогий квартал Басры. Цель моего странствия это ты сам, Харис!
Несмотря на юный возраст, Харис уже много повидал на своём веку, и его трудно было удивить. Но эти слова вывели его из оцепенения. Он взглянул на незнакомца. То был грязный нечёсаный нищий, издававший вонь давно не мытой плоти. Длинные грязные спутанные волосы закрывали его лицо и не давали определить возраст. На нём были надеты невообразимые лохмотья, в которых угадывалась некогда приличная одежда.
Нищий, между тем, продолжал:
– Да, когда-то я был богат. Затем обеднел. Давно я брожу по свету. Много прошёл я дорог, много повидал людей, городов и стран. Много раз я изнывал от жары и мёрз от холода. А к голоду я привык так, что научился обходиться без еды. И могу тебе сказать, о Харис, что в богатстве как в таковом нет той радости, которую ты от него ожидаешь. Поверь, сейчас, когда ты сидишь на пороге твоей хижины и жуёшь чёрствую лепёшку, ты счастлив, как мало кто из людей.
– Ты издеваешься надо мной, нищий! – воскликнул Харис. – Как можно быть счастливым в такой нищете? Странствия, видимо, повредили твой разум, и ты впал в безумие! Так знай же, я отдал бы самое дорогое, чтобы стать богатым и забыть про эту жалкую лачугу!
– Отдал бы самое дорогое? – встрепенулся нищий, из-под спутанных волос на Хариса глянули глаза, в которых горело пламя, верно, отблеск заката. – Хорошо, Харис, если я научу тебя, как стать богатым до завтрашнего восхода солнца, что ты мне дашь?..».
– – –
Входит. Садится, начинает говорить. Я слушаю. Нет, не я – моё тело. Слушает молча, понимающе поддакивает, когда надо улыбаться, когда надо негодует. Эмоциональные реакции точны. Оно это умеет – много лет одно и то же. Наконец, он выговорился. Встаёт, уходит. Нет, не суждено – в двери оборачивается и, стоя одной ногой в коридоре, говорит ещё минуты три. Потом-таки уходит.
– – –
«… Ящерица, гревшаяся в лучах заходящего солнца, вздрогнула и открыла подслеповатые глазки. Через мгновение она бросилась бежать, оставляя на песке двойную цепочку следов.
Послышался низкий гул. На месте, где лежала ящерица, песок будто закипел – песчинки задрожали, задвигались. То одна, то другая взвивалась в воздух и падала назад. Их становилось всё больше. Вот уже там образовался песчаный фонтанчик, который быстро рос, разбрасывая песок во все стороны. Вдруг раздался мощный хлопок, и масса песка, взвившись в воздух, тёмной тучей зависла над тем местом.
В человеке, одетом в чёрное, который вышел из образовавшегося провала, невозможно было узнать мальчика, двадцать лет назад чудом спасшегося от смерти, оказавшись в волшебной комнате.
Зейд окинул взглядом занесённые песком развалины города, который когда-то его возненавидел, и презрительная ухмылка чуть тронула уголки его рта.
Он повернулся и сделал лёгкий жест рукой. В тот же момент висящая в воздухе масса песка, обрушившись вниз, сровняла с землёй провал, похоронив под собой видневшуюся там волшебную дверь.
Глядя, не щурясь, на солнце у горизонта, Зейд подождал, пока осядет песчаная пыль. Затем, словно очнувшись от забытья, вздохнул, огляделся по сторонам и что-то крикнул на непонятном языке. Неведомо откуда перед ним возник статный вороной скакун в збруе, богато отделанной серебром. Зейд шагнул к коню, погладил его по мощной шее, что-то шепнул на ухо. Затем одним уверенным движением запрыгнул в седло и, пришпорив скакуна, направился в сторону захода солнца…».
– – –
Их четырнадцать. Слушают. Или делают вид. Моё тело читает лекцию. Оно это умеет – много лет одно и то же. Я притаился и наблюдаю. Большинство уже с нарисованными лицами. Краски сияют новизной. С некоторыми непонятно. Возможно, кто-то – настоящий. Хоть бы один…
Пора бы перестать надеяться – много лет одно и то же.
– – –
«…Вальтеру стало любопытно – вчера у Довганя было трое детей, сегодня появился четвёртый. Он спустился с крыльца и подошёл к женщине. Ребёнку было года полтора. Как понял Вальтер, это была девочка. Она была одета в какие-то тряпки явно не по росту, голова замотана в грубый шерстяной платок, какой здесь носят старухи. Вальтер жестами потребовал, чтобы платок сняли. Женщина долго не понимала или вид делала, но потом осторожно сняла платок. Девочка выглядела очень плохо. Её глаза были полузакрыты, она тяжело дышала всё время хныкала. Она явно была больна. Вальтер понял, что этого ребёнка он где-то видел. Причём не здесь. Она не была похожа на других детей Довганя. Несмотря на то, что была пострижена наголо, очень грубо, наверное, обычными ножницами, было видно, что её волосы чёрные и очень густые.
– Wer sie? Кто она? – спросил Вальтер у женщины. Та испуганно молчала. Вопрос пришлось несколько раз повторить, показывая пальцем на девочку.
Наконец, женщина тихим хриплым голосом что-то произнесла. Вальтер в своё время штудировал немецко-русский разговорник, который выдали офицерам. Как он понял, женщина сказала, что это её дочь.
– Du lügst! Ты врёшь! Es nicht deine Tochter! Это не твоя дочь! – возразил Вальтер.
Откуда-то выскочил старший сын Довганя и встал между Вальтером и матерью. С ненавистью глядя на Вальтера, он стал что-то громко говорить, показывая на девочку и на себя. Вальтер разобрал только слово «сестра». Надо понимать, мальчик говорил, что это его сестра. Подошедший Штауб пинком ноги отогнал его подальше. Тот опять подбежал к матери. Штауб за ухо оттащил мальчика к сараю, схватил висевшую там верёвку и стал лупить его по спине.
– Wer sie? Кто она? – Вальтер, не обращая внимания на Штауба, повторил вопрос. Женщина молчала, прижимая к себе ребёнка. Она дрожала и была очень бледна.
– Es ist meine Tochter. Это моя дочь. Sie rufen der Wera. Её зовут Вера, – это сказал Довгань, который до того возился на огороде и пришёл на шум. Он встал перед Вальтером, пытаясь закрыть собой ребёнка.
Увидев Довганя, Вальтер вспомнил, где видел девочку. Это была дочь той еврейки с красивыми волосами, которую Довгань вчера расстрелял.
– Sie nicht deine Tochter! Sie ist Jude! Она не твоя дочь! Она еврейка! – сказал Вальтер резко.
Григорий молча шагнул вперёд и встал, почти касаясь Вальтера. Он был ниже немца и, чтобы посмотреть тому в глаза, ему пришлось поднять голову. От него пахло свежевскопанной землёй, и этот едкий запах мгновенно вернул Вальтера во вчерашний день.
Набежавшая туча закрыла солнце. Стало темно, потянуло холодом. Мир исчез. Остался только один его маленький осколок. Осколок, в котором лицом к лицу стояли двое. Нет, не двое. Здесь был ещё третий – женщина, вчерашняя еврейка. Её распущенные волосы теребил лёгкий ветерок, обнажённое тело было прекрасно. Она стояла, выпрямившись во весь рост, и молча смотрела на мужчин, тем глубоким взглядом, которым смотрела перед собой тогда, за полчаса до своей смерти. Мужчины хорошо её видели, хотя пристально глядели друг другу в глаза. Григорий смотрел без страха или гнева. В его взгляде была спокойная уверенность человека, наконец, освободившегося от вековечного гнетущего страха. Во взгляде Вальтера было удивление и растерянность. Удивление и растерянность того, кому внезапно открылась Истина.
Они смотрели друг на друга разделённые пропастью, лежащей между их народами, культурами, цивилизациями, и объединённые общим преступлением. Они смотрели друг на друга долго, целую вечность. И тогда женщина шагнула вперёд и положила им на плечи свои тёплые руки…».
– – –
Маршрутка. Набита битком. Сидят. Стоят. Прижимаются. Спёртый воздух. Кто-то пил пиво. Отворачиваюсь в окно. Там серый декабрь. Я один из них. С нарисованным лицом. С нарисованной жизнью.
– – –
«… В следующий миг тело Катастрофы словно растаяло, растворилось в нежнейшей ласке, которая только может быть, – чей-то взгляд невесомо скользил по её обнажённой шее, по плечам, касался фигуры.
Катастрофу охватила сладкая истома. Она поняла: это был Он, тот, для которого она родилась, кому была предназначена с начала времён.
Теперь фея играла только для Катастрофы. Её музыка перестала быть звуками, она превратилась в прикосновения. В Его прикосновения. Катастрофа почувствовала на затылке тёплое дыхание, чуть шевелившее волосы, почувствовала, как горячие губы едва-едва касаются её шеи, плечей. Крепкие нежные руки легли на её талию, лёгким крещендо скользнув по животу, поднялись к грудям, чуть сжали их. Катастрофа, закрыв глаза, в изнеможении запрокинула голову, прислонилась к твёрдой мужественной опоре. Её дыхание слилось с Его дыханием в едином музыкальном аккорде. Она почувствовала, как Его сильные руки кладут её на что-то мягкое. В следующий миг горячие губы сначала легко коснулись, а затем страстно прижались к её губам. Она пылко ответила на поцелуй, впитывая в себя каждую его ноту, каждую паузу, каждый перелив мелодии, наслаждаясь тем, как в её недрах разгорается желание. Когда Он отстранился, чтобы расшнуровать её лиф, она чуть не закричала, испугавшись, что этот поцелуй, эта изысканная ласка больше не повторится. Но в следующий момент её груди вырвались на свободу, попав под шквал Его пламенных поцелуев, и она забыла свой страх, без остатка отдавшись музыке Его ласк, чувствуя, как, охватывая всё её тело, они неуклонно приближаются туда, где всё сильнее разгорается, стремясь Ему навстречу, Её мелодия. Вдруг в момент страстного фортиссимо, приблизившись к сокровенному, Он замер. Она перестала дышать, наслаждаясь сладостью этой паузы, понимая, что прелюдия, в которой Он был исполнителем, а Она лишь слушателем, завершена, что Её мелодия уже разгорелась, и настало время для их такого желанного дуэта. И вот Он начал его. С трудом сдерживаясь, Он повёл свою партию осторожно, медленно в темпе ларго, постепенно проникая в Её глубины. Но почувствовав с какой жадностью Она его охватила, подгоняемый во сто крат усилившейся страстью, Он устремился вперёд, исполняя адажио. Когда Он заполнил собою всю Её до предела, Её тело зазвучало с Ним в унисон, и их партии смешались в ликующем анданте. Прижав Его к себе и замерев, Она попросила ещё паузу, чтобы оттенить красоту финала. Через мгновение неимоверной силы желание в бешеном престо слило их сверкающие мелодии в одну, превратив их теперь уже единое естество в бушующую пламенем музыку, которая вырвалась за пределы их тел и разлилась по Вселенной взрывом Сверхновой, затмившим свет далёких звёзд и галактик».
– – –
Я дома. Встречает. Не показывает, что рада. Выхожу из ванной – тарелка уже на столе. Ставит и себе. Садится. Не ест – говорит. Много говорит. Целый день одна – не с кем. Люблю её? Этот уровень давно пройден. Она – часть меня. Если её от меня отрезать, я умру. Не стану зажимать рану. Пусть кровь вытечет.
– – –
«… Дорога! Ты горячишь мою кровь! Прошлое, оставленное за крупом коня, и сладкая истома неизвестности там впереди, за тонкой линей, разделяющей небо и землю. Горячий ветер пустыни, бьющий в лицо, секущий кожу мелкими песчинками. Ящерицы, торопливо убегающие и прячущиеся за барханами. Хищная птица, парящая в белёсом, будто выцветшем от зноя небе и ждущая моей погибели. Мерный топот копыт верного коня и грозный, но ласковый взгляд его через плечо: доволен ли ты мною, о мой любимый всадник? Удобно ли тебе? Достаточно ли резво я несу тебя к твоей цели?
Что влечёт меня туда, за волшебную линию горизонта? Надежда… Робкая надежда. Маленькая, как моя слезинка, и огромная, как моя фантазия…».
– – –
В комнате полумрак. Её освещает лишь экран компьютера. Там чистая страница. Мигает курсор. Есть – нет, есть – нет, есть – нет…
Днепропетровск, 2015
Скачать на телефон Купить книгу